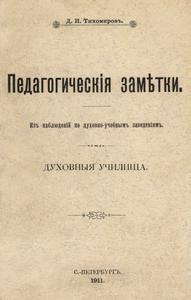
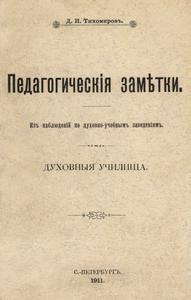
Обложка
Д. И. Тихомировъ.
Педагогическія замѣтки.
Изъ наблюденій по духовно-учебнымъ заведеніямъ.
ДУХОВНЫЯ УЧИЛИЩА.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1911.
1
Д. И. Тихомировъ.
Педагогическія замѣтки.
Изъ наблюденій по духовно-учебнымъ заведеніямъ.
ДУХОВНЫЯ УЧИЛИЩА.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Сѵнодальная типографія.
1911.
2 пустая
3
По мѣрѣ того, какъ увеличиваются потребности жизни и осложняются ея условія, возрастаютъ и запросы, предъявляемые къ школѣ, подготовляющей молодыя поколѣнія къ жизни. Между тѣмъ, организмъ человѣческій остается все тотъ же и даже становится еще хуже, наслѣдственно разстраиваясь изъ поколѣнія въ поколѣніе; не увеличивается, для нуждъ школы, и количество часовъ въ сутки. Расчитывать, такимъ образомъ, приходится на усовершеніе педагогическихъ пріемовъ обученія и воспитанія, чтобы сдѣлать осуществимою въ современной школѣ предлагаемую ей въ отношеніи къ учащимся задачу.
Наблюденіе за жизнію духовно-учебныхъ заведеній дало мнѣ довольно значительный фактическій матеріалъ о состояніи учебно-воспитательной части въ духовной школѣ. Думается, что будетъ, въ интересахъ общаго дѣла, неизлишнимъ, если я изложу нѣкоторую часть моихъ наблюденій, чтобы они, вмѣстѣ съ другими сродными матеріалами, могли поступить въ число данныхъ при обсужденіи какъ наличнаго состоянія учебно-воспитательной части въ духовной школѣ, такъ и путей къ усовершенію ея учебно-воспитательныхъ средствъ.
Имѣется надобность отмѣтить при этомъ слѣдующее.
Мною будутъ излагаться лишь одни дѣйствительныя мои фактическія наблюденія, а потому кругъ, объемъ и направленіе моихъ замѣчаній будутъ сообразовываться съ этимъ обстоятельствомъ. При этомъ въ однихъ случаяхъ я буду касаться отдѣльныхъ фактовъ и излагать ихъ, въ другихъ будетъ представляться мною болѣе или менѣе обобщенное изложеніе однородныхъ наблюденій. Само собою разумѣется, что мною будутъ устранены всякія указанія мѣстностей и лицъ, и вопросы будутъ ставиться въ ихъ объективномъ дѣловомъ значеніи. Нахожу не лишеннымъ значенія такое именно
4
фактическое ознакомленіе съ учебно-воспитательными вопросами духовной школы потому, что дидактическая разработка этихъ вопросовъ, — которая еще пока впереди, — возможна была бы въ отношеніи къ нашей школѣ, хотя и въ освѣщеніи ея положеніями научной дидактики, но въ то же время лишь на почвѣ фактической жизни школы и фактически имѣющихся въ ней недостатковъ и достоинствъ. Съ фактовъ начиная, поэтому, думаю, правильнѣе будетъ и приступать къ этому дѣлу.
Съ другой стороны, мои замѣчанія будутъ въ большинствѣ касаться слабыхъ сторонъ учебной части школы, ея недостатковъ. Это не значитъ, что духовная школа не имѣетъ и хорошихъ сторонъ, или имѣетъ свѣтлыхъ сторонъ меньше, чѣмъ тѣневыхъ. Я не имѣю въ виду представить какой-либо общій очеркъ состоянія учебно-воспитательной части духовной школы: я имѣю въ виду изложить лишь нѣкоторыя изъ своихъ наблюденій, притомъ съ цѣлію — указаніемъ замѣчающихся въ школѣ недостатковъ содѣйствовать устраненію ихъ изъ учебно-воспитательной практики и чрезъ это возвышенію успѣховъ школы. Положительныя стороны педагогическихъ вопросовъ, впрочемъ, сами собою будутъ вырисовываться въ изложеніи отрицательныхъ сторонъ ихъ.
Предметомъ моего изложенія будутъ служить мои наблюденія въ духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ, въ связи съ которыми я буду иногда касаться отчасти также и женскихъ училищъ — епархіальныхъ и духовнаго вѣдомства, въ тѣхъ частяхъ учебнаго курса ихъ, въ которыхъ они совпадаютъ или соприкасаются съ учебными предметами, преподающимися въ духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ.
Что же касается самаго порядка изложенія, то я нахожу наиболѣе удобнымъ сначала указать такіе изъ замѣчавшихся мною недочетовъ, которые, повторяясь во многихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ преподаваніи разныхъ предметовъ, имѣютъ поэтому общій характеръ, а потомъ изложить уже спеціальныя, дидактическаго характера, особенности, которыя относятся къ преподаванію тѣхъ или другихъ отдѣльныхъ предметовъ.
5
ДУХОВНЫЯ УЧИЛИЩА.
Общія наблюденія и замѣчанія.
I.
Среди сторонъ общаго характера въ учебной части духов-
ныхъ училищъ останавливаютъ на себѣ вниманіе прежде всего та-
кія, которыя, хотя и относятся къ постановкѣ учебной части въ
школѣ и весьма ощутительно обусловливаютъ ея успѣшность, но
прямого отношенія къ дидактическимъ вопросамъ не имѣютъ и
носятъ характеръ административно-учебный.
Здѣсь обращаютъ на себя вниманіе, напримѣръ, разнаго
рода
неправильности въ распредѣленіи уроковъ между лицами препода-
вательская состава, болѣе или менѣе значительно отражающіяся
на успѣхахъ учащихся.
Такъ, бываетъ, что одинъ и тотъ же предметъ дробится
между многими преподавателями. Это замѣчается нерѣдко въ
епархіальныхъ женскихъ училищахъ, въ которыхъ преподаватель-
ски персоналъ въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ
приглашается изъ числа лицъ, служащихъ въ другихъ учебныхъ
заведеніяхъ. Мнѣ, напримѣръ, приходилось
бывать въ епархіаль-
ныхъ женскихъ училищахъ, гдѣ Законъ Божій преподавался 5-ю
лицами, русскій языкъ (въ томъ же училищѣ) — 8 лицами, гео-
графія—также 8 лицами, гражданская исторія—6 лицами; или въ
другомъ случаѣ: Законъ Божій преподавался 4 лицами, русскій
языкъ—6 преподавателями, ариѳметика—5 преподавателями; еще:
ариѳметика—четырьмя лицами, физика—двумя и т. п. При этомъ
въ распредѣленіи классовъ между преподавателями часто не было
какой-либо опредѣленной послѣдовательности,
и учащіяся, съ пере-
6
движеніемъ изъ класса въ классъ, переходили изъ однѣхъ препо-
давательскихъ рукъ въ другія, третьи и т. д.
Само собою разумѣется, что такая раздробленность преподаванія
одного предмета между нѣсколькими лицами, съ разными пріемами
обученія и съ разными требованіями къ учащимся, отражается на
познаніяхъ и развитіи учащихся, понижая ихъ успѣхи и вызывая
съ ихъ стороны больше труда и усилій къ усвоенію преподавае-
маго содержанія. Допускается
подобное дробленіе учебныхъ пред-
метовъ между преподавателями, конечно, не съ точки зрѣнія инте-
ресовъ учащихся или учебнаго дѣла, а обычно—съ точки зрѣнія
личныхъ удобствъ преподавателей, иногда въ связи съ нуждою
учебнаго заведенія пользоваться сторонними преподавательскими
силами. Вообще, далеко не во всѣхъ случаяхъ въ надлежащей сте-
пени принимаются мѣры къ устраненію этого административно-
учебнаго недочета, далеко не маловажнаго для постановки учебной
части въ заведеніи.
Въ
мужскихъ духовныхъ училищахъ недочетъ этотъ встрѣ-
чается не такъ часто, въ виду сравнительной немногочисленности
классовъ и относительной достаточности количества лицъ преподава-
тельскаго персонала. Однако и здѣсь допускаются иногда въ той или
иной формѣ нарушенія того же педагогическаго требованія, чтобы
преподаваніе предмета начиналось, велось и заканчивалось однимъ
и тѣмъ же преподавателемъ.
Случается это, напримѣръ, въ училищахъ съ параллельными
классами, въ которыхъ преподаваніе
дѣлится между наличными
преподавателями не всегда съ надлежащимъ вниманіемъ къ соблю-
деніи) должной преемственности въ переходѣ ученика отъ одного
учителя къ другому. Такъ, напримѣръ, мнѣ приходилось встрѣчать,
что въ IV параллельномъ классѣ катихизисъ преподается (какъ и
въ III—IV штатныхъ классахъ) смотрителемъ училища, а въ III
параллельномъ классѣ онъ преподается другимъ лицомъ—однимъ
изъ преподавателей. Такимъ образомъ, часть катихизиса ученики
проходятъ у одного преподавателя,
а другую часть—у другого. Или
въ другомъ училищѣ: смотритель имѣетъ уроки Закона Божія въ
штатныхъ III—IV классахъ, а параллельные III и IV классы по-
дѣлены между двумя преподавателями, изъ коихъ одинъ препо-
даетъ въ III классѣ, а другой—въ IV классѣ. Или еще фактъ:
7
Священная Исторія въ I—II штатныхъ классахъ преподается по-
мощникомъ смотрителя, а въ I—II параллельныхъ классахъ препо-
даваніе ея раздѣлено между двумя другими лицами изъ препода-
вательская) персонала учебнаго заведенія, изъ коихъ одно препо-
даетъ Священную Исторію въ I классѣ, а другое—во II классѣ.
Или: помощникъ смотрителя, преподавая Священную Исторію въ
I—II штатныхъ классахъ, беретъ себѣ для преподаванія граждан-
скую исторію въ
III—IV классахъ, а Священную Исторію въ I па-
раллельномъ классѣ уступаетъ другому лицу, при чемъ во II парал-
лельномъ классѣ Священная Исторія остается у того же помощ-
ника смотрителя. Иной случай: при существованіи въ одномъ учи-
лищѣ параллелей во II и III классахъ, русскій языкъ преподается
во II параллельномъ классѣ однимъ лицомъ, а въ III классѣ—дру-
гимъ лицомъ, географія во II классѣ—также однимъ лицомъ, а въ
III классѣ—другимъ лицомъ. Еще: при существованіи параллель-
ныхъ
отдѣленій въ I—III классахъ училища, русскій языкъ во
всѣхъ трехъ классахъ преподается разными лицами, географія так-
же во всѣхъ трехъ классахъ—разными лицами, Священная Исто-
рія въ I—II классахъ—также разными лицами.
Недостатокъ этотъ могъ бы быть, конечно, смягченъ тѣмъ,
что преподаватель переходилъ бы съ своими учениками изъ млад-
шаго класса въ слѣдующій старшій, и такимъ образомъ ученикъ
заканчивалъ бы изученіе предмета у одного преподавателя. Но и
этого въ данномъ случаѣ
не примѣняется, потому что такое распре-
дѣленіе уроковъ принимается обычно по случайнымъ соображеніямъ
и обстоятельствамъ даннаго года.
Переходъ преподавателя съ своими учениками изъ предыду-
щаго класса въ слѣдующій болѣе или менѣе правильно наблюдается
только въ отношеніи къ отечественной исторіи въ III—IV классахъ
училища, въ виду имѣющихся по этому предмету оффиціальныхъ
разъясненій. Но встрѣчаются тѣмъ не менѣе и отступленія отъ
этого. Приходилось мнѣ встрѣчаться и съ спорнымъ
раздѣленіемъ
преподаванія исторіи въ училищѣ не только между двумя лицами,
но и въ формѣ двухъ раздѣльныхъ предметовъ—церковной исторіи,
преподаваемой въ III—IV классахъ, и гражданской исторіи, также
преподаваемой, особо и другимъ лицомъ, въ III—IV классахъ учи-
лища, при одномъ урокѣ на тотъ и другой предметъ, тогда какъ
8
въ духовномъ училищѣ назначена къ преподаванію церковная и
гражданская исторія, какъ одинъ предметъ, при двухъ урокахъ въ
III и IV классахъ.
Параллельные классы въ духовныхъ училищахъ иногда даютъ
поводъ къ сосредоточенію, въ ущербъ успѣха дѣятельности учебнаго
заведенія, слишкомъ значительнаго количества уроковъ у лицъ
административно-воспитательнаго наблюденія по учебному заведе-
нію. Такъ, напримѣръ, бываютъ такіе случаи: у смотрителя учи-
лища—18
уроковъ, у помощника смотрителя—21, у одного надзи-
рателя — 10 уроковъ, у другого — 15 уроковъ. Или: у смотрителя
18 уроковъ, помощника его—15 уроковъ, при довольно значитель-
номъ также числѣ уроковъ и у надзирателей.
Рядомъ съ этимъ встрѣчаются случаи разбросанности заня-
тій преподавателей по разнымъ учебнымъ заведеніямъ и по раз-
нымъ предметамъ. Приходилось, напримѣръ, встрѣчать, что пре-
подаватель греческаго языка, кромѣ этого своего предмета, препода-
валъ въ училищѣ
же географію и природовѣдѣніе (въ параллель-
ныхъ классахъ) и кромѣ того въ стороннихъ учебныхъ заведеніяхъ—
русскій языкъ. Или преподаватель латинскаго языка преподаетъ,
кромѣ того, въ духовномъ же училищѣ ариѳметику и въ стороннихъ
учебныхъ заведеніяхъ—географію и словесность. Всего, такимъ
образомъ, у того и другого наставника имѣлось по четыре учеб-
ныхъ предмета для преподаванія. Случалось и такъ, что препода-
ватель училища, при 10 своихъ урокахъ по занимаемой должности,
имѣлъ
21 урокъ въ стороннихъ учебныхъ заведеніяхъ, а другой препо-
даватель, при 10 урокахъ въ училищѣ, имѣлъ 27 уроковъ на сторонѣ.
Отъ несоотвѣтственности распредѣленія занятій преподавате-
лей интересамъ учебныхъ заведеній болѣе всего страдаютъ какъ въ
мужскихъ духовныхъ училищахъ, такъ и въ женскихъ епархіаль-
ныхъ училищахъ параллельныя отдѣленія, которыя нерѣдко за-
мѣтно отличаются по успѣхамъ учащихся отъ нормальныхъ клас-
совъ учебнаго заведенія. Отчасти это и естественно, по крайней
мѣрѣ,
въ тѣхъ случаяхъ, когда открытіе параллельнаго отдѣленія
является случайнымъ обстоятельствомъ въ жизни учебнаго заведенія
и когда преподаваніе въ немъ приходится распредѣлять между сво-
бодными преподавательскими силами даннаго года. Но въ боль-
шинствѣ случаевъ въ открытіи параллельныхъ отдѣленій и ихъ
9
существованіи при учебномъ заведеніи имѣются своя опредѣлен-
ность и устойчивость, и потому преподаваніе въ параллельныхъ
отдѣленіяхъ могло бы быть поставлено, при вниманіи къ этому, въ
должную норму, на-ряду съ штатными классами училища.
Заслуживаетъ также быть отмѣченною довольно нерѣдкая по ду-
ховнымъ училищамъ отстраненность преподавательскаго персонала
отъ внутренней жизни своего учебнаго заведенія. Преподаватель
знаетъ только свое прямое
дѣло—преподаваніе извѣстнаго предмета
и слѣдитъ только за этимъ. А какъ живетъ все учебное заведеніе,
это обычно предоставляется знать начальству учебнаго заведенія и
его воспитательнымъ органамъ—надзирателямъ; преподавательская
корпорація входитъ въ эти вопросы лишь постольку, поскольку они
становятся предметомъ обсужденія на засѣданіяхъ правленія.
Хотя съ точки зрѣнія личнаго спокойствія преподавателя по-
рядокъ этотъ представляется наиболѣе удобнымъ, но не таково его
значеніе
для учебнаго заведенія въ дѣйствительности. Только при
условіи общаго единогласная) дѣйствованія всей корпораціи и при
условіи, чтобы все, касающееся жизни учебнаго заведенія, считалось
близкимъ и важнымъ для каждаго члена корпораціи учебнаго заве-
денія, возможна правильная учебно - воспитательная дѣятельность
заведенія. Конечно, эти положенія—общеизвѣстная истина, ясно
устанавливаемая и дѣйствующими по духовно-учебнымъ заведеніямъ
узаконеніями и распоряженіями. Но дѣйствительность
въ этомъ отно-
шеніи нерѣдко расходится съ начертаніями уставовъ.
II.
Переходимъ къ вопросамъ собственно дидактическаго .харак-
тера.
Духовныя училища, при малолѣтнемъ составѣ учащихся въ
нихъ, относятся къ учебнымъ заведеніямъ, въ которыхъ соблюде-
ніе дидактическихъ правилъ при преподаваніи имѣетъ особо важное
значеніе. Ученики училищъ, даже къ окончанію курса въ нихъ, не
выходятъ изъ той ступени развитія, когда требуется со стороны
преподавателя помнить, что предъ нимъ
находятся маловозрастные
учащіеся. Въ младшихъ же классахъ училища, и особенно въ
10
первомъ, ученики тѣмъ болѣе нуждаются въ дидактической по-
мощи для успѣшнаго усвоенія преподаваемаго содержанія и для
правильнаго своего умственнаго развитія.
Преподаватель духовнаго училища поэтому долженъ быть
особенно полно свѣдущъ въ педагогикѣ и опытенъ въ примѣненіи
лучшихъ дидактическихъ пріемовъ обученія. Для успѣшности его
педагогической дѣятельности недостаточно только хорошо самому
знать свой предметъ: необходимо кромѣ того и умѣть
его пре-
подать.
На практикѣ же часто случается нарушеніе этихъ само собою
понятныхъ педагогическихъ истинъ. Нерѣдко приходится, напри-
мѣръ, видѣть, что преподаватель,—особенно это встрѣчается съ мо-
лодыми преподавателями,—какъ бы совершенно забываетъ о своей
маленькой аудиторіи и такъ ведетъ свой урокъ, что онъ оказы-
вается далеко превышающимъ уровень развитія и знаній его уче-
никовъ. Рѣчь его, иногда сама по себѣ и содержательная, идетъ
выше головъ маленькой аудиторіи,
и почти ничего изъ ея содержа-
нія, какъ оказывается потомъ на повѣрку, не задерживается въ
головахъ учащихся. Ученики потомъ восполняютъ этотъ недочетъ
простымъ и обычнымъ для школы способомъ: возьмутъ учебную
книжку и по ней, если не поймутъ, то выучатъ то, что отъ нихъ
требуется. Молодой же преподаватель, услышавъ на слѣдующемъ
урокѣ въ отвѣтахъ учениковъ точную рѣчь учебника, можетъ ока-
заться и доволенъ знаніями учениковъ. Но не замедлятъ обнару-
житься и неизбѣжныя послѣдствія
такого преподаванія какъ въ
отношеніи слабыхъ успѣховъ учениковъ по данному предмету, такъ
особенно въ отношеніи къ развитію учащихся, которое бываетъ
слабое, недостаточное. Жалобы на недостаточность развитія учени-
ковъ духовныхъ училищъ шлютъ иногда, даже въ оффиціальномъ
порядкѣ, изъ правленій семинарій, указывая на слабое общее раз-
витіе учениковъ, поступающихъ изъ училищъ въ семинарію. На
то же жалуются нерѣдко и въ училищахъ, иногда говорятъ и спо-
рятъ въ засѣданіяхъ правленія,
ищутъ причинъ этого, даже и на-
ходятъ ихъ—большею частью указывая на недостаточную домаш-
нюю подготовку учащихся. Но нерѣдко ускользаетъ отъ вниманія,
что первая и главнѣйшая причина этого заключается въ дидакти-
ческихъ недостаткахъ преподаванія въ самомъ же училищѣ.
11
Иногда мысль о необходимости приноравливаться къ уровню
развитія учащихся и кг дѣтской природѣ сказывается на прак-
тикѣ въ своеобразной формѣ: мнѣ приходилось встрѣчаться въ млад-
шихъ классахъ съ случаями, когда преподаватель, желая стать
понятнымъ ученикамъ, старался подражать, съ обычной въ подоб-
ныхъ случаяхъ поддѣлкой, дѣтскому говору, при оттѣнкѣ покрови-
тельственной снисходительности взрослаго къ малолѣтку.
Въ то же время часто замѣчается
недостаточное вниманіе къ
одному общеизвѣстному и общепризнаваемому свойству правильнаго
преподаванія—оживленности его. столь необходимой при занятіяхъ
особенно съ малолѣтними учащимися. Монотонность голоса, вялая
и тихая рѣчь — довольно часто встрѣчающіеся у преподавателей
недостатки, значительно вліяющіе на успѣхъ ихъ преподаванія.
Приходилось вмѣстѣ съ тѣмъ видѣть и такія проявленія живости
преподаванія, которыя, по дидактическимъ своимъ послѣдствіямъ,
могутъ быть не лучше
упомянутыхъ недостатковъ: одинъ, напри-
мѣръ, частить въ рѣчи и спѣшитъ, другой проявляетъ бойкость
рѣчи до излишней развязности, иной прибѣгаетъ при объясненіяхъ
къ не всегда умѣстной жестикуляціи; приходилось видѣть и такой
случай, когда преподаватель махалъ руками, горячился, возвышалъ
голосъ и проч., какъ только ученикъ дѣлалъ ошибки.
Недочеты преподавателей иногда своеобразно сказывались и
на ученикахъ, усвоивавшихъ особую монотонность и напряженность
голоса и обнаруживавшихъ
это при отвѣтахъ. Монотонность и на-
пряженность голоса у учениковъ составляли въ нѣкоторыхъ учили-
щахъ почти общій недостатокъ учениковъ, обычно отвѣчавшихъ
на урокахъ, отъ начала до конца, неизмѣнно въ одной звуковой
нотѣ, крикливо и съ какой-то рѣзкой натугой голоса. Въ другихъ
случаяхъ этотъ недостатокъ наблюдался мною, по крайней мѣрѣ,
хотя не какъ общее по училищу явленіе.
Конечно, весьма многіе преподаватели не допускаютъ какихъ-
либо дидактическихъ погрѣшностей въ этомъ
отношеніи и ведутъ
преподаваніе съ оживленіемъ и умѣло. Иные же восполняютъ нѣко-
торые въ этомъ отношеніи недочеты другими достоинствами. Такъ,
напримѣръ, приходилось наблюдать, что преподаватель съ тихою и
вялою рѣчью соединяетъ, по крайней мѣрѣ, внятность слова, или,
при тихой и даже вялой рѣчи, методично и послѣдовательно авали-
12
зируетъ, иллюстрируетъ и разъясняетъ преподаваемое содержаніе,
чѣмъ заинтересовываетъ учениковъ, и они занимаются съ успѣ-
хомъ.
Важно, чтобы преподаватели въ самой педагогической своей
практикѣ придавали должное значеніе этимъ общеизвѣстнымъ сто-
ронамъ правильнаго преподаванія, привыкали слѣдить за собою и,
въ случаѣ какихъ-либо недочетовъ у себя, или устраняли ихъ
или, по крайней мѣрѣ, ослабляли ихъ другими какими-либо дидак-
тическими
достоинствами, болѣе соотвѣтственными ихъ индивидуаль-
ному складу.
Распространеннымъ въ школѣ недостаткомъ являются также
книжность и механичность преподаванія, а чрезъ то и усвоенія
учащимися преподаваемаго учебнаго матеріала. Причина слабыхъ
сторонъ учебной части въ училищѣ обычно имѣется не въ недо-
статкѣ усердія у преподавателей и у учениковъ, а въ дидакти-
ческой постановкѣ преподаванія, въ которомъ много книжности
и мало жизненности, много отвлеченности, и потому механичности,
и
мало конкретизаціи преподаваемаго и анализа общихъ понятій
до лежащихъ въ основаніи ихъ предметныхъ данныхъ фактической
дѣйствительности. Преподаватель имѣетъ предъ собою программу и
соотвѣтственную учебную книжку: этимъ нерѣдко исчерпывается
все,—книжку учатъ, программу выполняютъ и сдается экзаменъ.
Объясненія уроковъ? Они бываютъ, и даже всегда, но состоятъ не-
рѣдко въ разсказѣ и повтореніи той же учебной книжки; анализа
же общихъ понятій, которыми полна учебная книжка, зачастую
не
дѣлается, какъ не практикуется и обратнаго пріема—индук-
тивнаго, отъ конкретныхъ фактовъ и частныхъ элементовъ начи-
нающагося, объяснительнаго вывода тѣхъ или другихъ общихъ по-
ложеній, знаніе которыхъ предполагается программою. Получаются
въ подобныхъ случаяхъ: книжность и теоретичность преподаванія
механичность и отвлеченность усвоенія, отсутствіе въ томъ и дру-
гомъ жизненности и предметности.
Поддержанію такого порядка преподаванія немало содѣй-
ствуетъ и обычный по духовнымъ
училищамъ недостатокъ нагляд-
ныхъ пособій. Не всегда пользуются ими даже и въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда они имѣются въ училищѣ. Обычныя, изстари упрочив-
шіяся, наглядный пособія по училищамъ—это географическія карты
13
я глобусъ. Этими пособіями въ преподаваніи обычно пользуются ,
хотя и не всегда въ должной мѣрѣ и формѣ. Во всемъ прочемъ
имѣется въ большинствѣ случаевъ ощутительный недостатокъ. Слу-
чалось и такъ, что училище пріобрѣтало, по сдѣланнымъ ему ука-
заніямъ, такія или иныя пособія, но примѣненіе ихъ на дѣлѣ со-
стояло лишь въ томъ, что они развѣшивались для украшенія по
стѣнѣ класса или ставились въ шкафъ, чтобы сказать, что учи-
лище располагаетъ
такими-то пособіями. Между тѣмъ, наглядныя
пособія — въ рукахъ умѣющаго пользоваться ими преподавателя
могущественный образовательныя средства для учащихся.
Среди преподавательскаго персонала училищъ есть, конечно,
немало и такихъ, которые въ указанномъ отношеніи недочетовъ не
имѣютъ и ведутъ преподаваніе съ этой стороны правильно и съ
успѣхомъ. Но я и не имѣю въ виду дѣлать какія-либо несоотвѣт-
ственныя дѣйствительности обобщенія, хотя, все же, не будетъ по-
грѣшностію сказать,
что указанный дидактическій недостатокъ зна-
чительно распространенъ по духовнымъ училищамъ.
Въ связи съ анализомъ преподаваемаго содержанія находится
форма, въ которой излагается это содержаніе. Встрѣчается, что
преподаваніе ведется въ классѣ, не смотря на малый возрастъ и
малое развитіе учащихся, лекціоннымъ способомъ, въ монологической
передачѣ всего того учебнаго матеріала, который дается потомъ
ученикамъ на урокъ. Встрѣчается это въ отношеніи къ разнообраз-
нымъ предметамъ,
и не въ мужскихъ только духовныхъ училищахъ,
но и въ женскихъ. Лекціонность веденія урока, впрочемъ, такъ
или иначе обычно сглаживается—тѣмъ, что послѣ болѣе или менѣе
продолжительнаго монологическаго объясненія, не сопровождавша-
яся оживленіемъ вниманія учениковъ соотвѣтственными вопросами,
требуется отъ ученика, чтобы онъ повторилъ сказанное препода-
вателемъ. И если спрашиваніе одного ученика не бываетъ слиш-
комъ продолжительно и утомительно, а урокъ, по плану препода-
вателя,
разбивается для объясненія на нѣсколько частей, то такой
типъ урока достаточно близко подходитъ къ нормальному ходу
класснаго урока. Но бываетъ и такъ, что преподаватель» молодой
или по установившимся издавна привычкамъ, не занимаетъ такого
болѣе или менѣе уравновѣшеннаго въ дидактическомъ отношеніи по-
ложенія, и лекціонность урока становится какъ-бы естественнымъ
14
продолженіемъ другихъ дидактическихъ недостатковъ, особенно книж-
ности и механичности преподаванія.
Вообще же говоря, необходимость расчлененіи преподаваемаго
содержанія на части и объясненія ею по частямъ, особенно предъ
малолѣтнимъ составомъ учащихся, настолько общеизвѣстная педаго-
гическая истина, что она неизбѣжно находитъ для себя ту или
иную форму примѣненія, и потому въ преподавательской практикѣ
пріемъ катихизаціи учебнаго матеріала
имѣетъ широкое практи-
ческое приложеніе. Но въ примѣненіи катихизаціи встрѣчаются
также болѣе или менѣе распространенные недочеты, изъ которыхъ
заслуживаютъ быть отмѣченными слѣдующіе.
Въ цѣляхъ оживленія вниманія класса преподаватель нерѣдко
обращается съ вопросами ко всему классу. Пріемъ этотъ собственно
относится къ разряду дидактическихъ пріемовъ обученія въ на-
чальной школѣ, и потому, когда онъ примѣняется въ приготови-
тельномъ классѣ духовнаго училища, то представляется
обычно умѣст-
нымъ и никакихъ замѣчаній не вызываетъ, если не соединяется
съ какими-либо иными дидактическими ошибками. Допустимъ онъ
отчасти и въ I классѣ училища. Но когда его примѣняютъ въ стар-
шихъ классахъ училища, когда и здѣсь преподаватель ведетъ
катихизацію урока въ формѣ обращенія съ вопросами ко всему
классу и когда въ отвѣтъ гудитъ ему хоромъ все собраніе доста-
точно возрастныхъ юношей, уже довольно привыкшихъ къ сосредо-
точенной умственной работѣ въ-одиночку, то
картина получается
совсѣмъ иная и вызываетъ много критическихъ относительно себя
замѣчаній.
Имѣетъ, думается, очень сомнительную дидактическую цѣн-
ность встрѣчавшееся мною неоднократно, даже въ IV классѣ ду-
ховнаго училища, подобное, почти постоянное обращеніе препода-
вателя къ классу съ вопросами и говореніе во время урока, въ
отвѣтъ на такіе вопросы и по поводу ихъ, всѣмъ классомъ, близко
граничащее съ недисциплинированностью класса. Было бы больше
дидактической пользы,
если бы наставникъ, поддерживая напряже-
ніе вниманія класса къ своему слову и отвѣтамъ учениковъ, обра-
щался съ вопросами поперемѣнно къ отдѣльнымъ лицамъ. Общіе
хоровые отвѣты учениковъ, полезные при занятіяхъ на первоначаль-
ной ступени обученія, здѣсь скорѣе служатъ къ укорененію расша-
15
танности дисциплины въ классѣ. Мнѣ приходилось обстановку эту
видѣть на разныхъ предметахъ преподаванія, напримѣръ, по кати-
хизису и русскому языку, и въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ—
въ духовныхъ училищахъ и въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ,
и во всѣхъ случаяхъ для меня очевидною становилась педагогиче-
ская ошибочность перенесенія въ средній возрастъ учащихся тѣхъ
дидактическихъ пріемовъ, которые умѣстны и удобны, а иногда и
весьма полезны,
на первыхъ ступеняхъ обученія. Вниманія среди
возрастныхъ учениковъ они не поддерживаютъ, скорѣе ослабляютъ
его, потому что въ классѣ выкрикиваютъ за всѣхъ обычно двое-
трое, остальные же лишь присоединяются къ ихъ отвѣтнымъ вы-
крикамъ. И преподаватель поэтому совершенно напрасно успокои-
ваетъ себя мыслію о вниманіи класса, его знаніяхъ, развитіи и
сообразительности. Ученики въ этомъ періодѣ учебной жизни своей
уже достаточно бываютъ опытны и сумѣютъ во-время помолчать
и во-время
голосъ подать, чтобъ показаться знающими.
Приходилось наблюдать, какъ съ такой хоровой катихизаціей
соединялась иногда еще оригинальная постановка вопросовъ, по
намѣренію преподавателя—конечно, въ видахъ оживленія вниманія
и самодѣятельности учениковъ. Вопросы ставились во время объясне-
ній преподавателя нерѣдко общіе, неопредѣленные, въ родѣ: «что?
какъ»?—приставляемыхъ къ тому или другому члену предложенія
и предоставляющихъ ученику свободу догадокъ, въ какомъ направ-
леніи
нужно искать отвѣта. Напримѣръ, преподаватель говоритъ: «и
дѣйствительно, сколько есть людей, которые, пренебрегая тѣлесными
удовольствіями, отдаютъ - себя только духовнымъ... что? что?... удо-
вольствіямъ». Нелегко было ученикамъ догадаться на двукратный
вопросъ преподавателя, какое слово нужно сказать послѣ «духов-
нымъ», и преподаватель самъ уже назвалъ искомое слово. Въ
другихъ случаяхъ, впрочемъ, ученики были находчивѣе и угады-
вали мысль преподавателя, хотя дидактическая польза
отъ такихъ
умственныхъ упражненій все же сомнительна.
Подобнаго рода постановка вопросовъ, неопредѣленныхъ, не-
ясныхъ, попутно приставляемыхъ то къ тому, то къ другому
члену предложенія при объясненіяхъ наставника, встрѣчаемая на
практикѣ не слишкомъ рѣдко, объясняется въ большинствѣ случаевъ
механически усвоенными преподавателемъ навыками, и мнѣ прихо-
16
дилось иногда быть свидѣтелемъ предложенія преподавателемъ
весьма неудачныхъ вопросовъ, видимо срывавшихся съ языка по
механической привычкѣ.
Подсказываніе ученикамъ во* время катихизаціи составляетъ
довольно часто встрѣчающійся недостатокъ преподаванія. Имѣемъ
въ виду не тѣ случаи подсказыванія, когда преподаватель дѣлаетъ
это съ цѣлію въ возможно лучшемъ видѣ представить свой классъ
предъ постороннимъ лицомъ, присутствующимъ на урокѣ. Послѣдніе
случаи,
хотя и нерѣдки въ практикѣ, но имѣютъ совершенно осо-
бую обстановку и потому достаточно ясны для наблюдающаго лица,
а вслѣдствіе этого и безполезны для тѣхъ, кто къ этому прибѣгаетъ.
Имѣемъ въ виду подсказываніе, какъ усвоенный привычкою пріемъ
катихизаціи.
Мнѣ приходилось наблюдать нѣсколько разновидностей этого
своеобразнаго дидактическаго недостатка. Въ одномъ, напримѣръ,
случаѣ преподаватель предлагалъ ученикамъ вопросы изъ препода-
ваемаго содержанія и вслѣдъ затѣмъ самъ
же давалъ на нихъ
отвѣты, предупреждая спрашиваемаго ученика, при чемъ спѣшность
эта зависѣла отъ нѣкоторой нервности и нетерпѣливости преподава-
теля.—Въ другихъ случаяхъ преподаватель, предлагая ученикамъ
вопросы, самъ же на эти вопросы давалъ отвѣты съ особымъ оттѣ-
неніемъ нѣкоторыхъ частностей, передачу которыхъ онъ, видимо,
не довѣрялъ сообразительности учащихся. Своеобразность этой кати-
хизаціи, замѣчавшаяся иногда даже и у хорошихъ преподавателей,
объяснялась тѣмъ, что
отвѣты ученика казались наставнику недо-
статочными, неполными или неточными, и .потому, лишь только уче-
никъ обнаружитъ попытку что-либо сказать на предлагаемый во-
просъ, преподаватель спѣшитъ выразить его предполагаемую мысль
поточнѣе, пополнѣе и пояснѣе,—ученику, при такихъ обстоятель-
ствахъ, приходилось или молчать и вмѣсто отвѣта слушать настав-
ника, или повторять за преподавателемъ его слова. Основной смыслъ
катихизаціи такимъ образомъ почти утрачивался.—Бывали, затѣмъ,
и
такіе случаи, когда преподаватель, предлагая ученикамъ вопросы,
давалъ самъ же отвѣты на нихъ, повидимому, по своему благо-
душію, не давая себѣ труда остановиться мыслію на томъ, какой
дидактическій вредъ приноситъ чрезъ это ученику какъ въ отноше-
ніи усвоенія преподаваемаго въ данное время учебнаго матеріала,
17
такъ и вообще въ отношеніи къ умственному развитію, такъ какъ
правильная катихизація имѣетъ существенную педагогическую
важность, углубляя и расширяя самодѣятельную мысль учащагося
и пріучая его къ точному и правильному изложенію мыслей въ
словѣ.—Бывали также случаи, что преподаватель обнаруживалъ не-
удержимую привычку говорить за учениковъ или подсказывать имъ
отвѣты, и мнѣ почти невозможно было иногда получить на свои
вопросы отвѣтъ ученика,
самимъ имъ сдѣланный, безъ подсказовъ
преподавателя.—Приходилось наблюдать и такую форму подсказы-
ванія отвѣта ученику, что начиналось преподавателемъ первое слово
въ предполагаемомъ отвѣтѣ ученика, иногда даже первый слогъ
этого перваго слова. Здѣсь разумѣются не тѣ случаи, когда подсказы-
ваютъ или напоминаютъ, напримѣръ, первое слово забытаго текста
Священнаго Писанія или начало забытаго стихотворенія: это еще
имѣетъ для себя нѣкоторое оправданіе, такъ какъ относится къ
напоминаніи)
того, ^го механизировалось болѣе или менѣе въ па-
мяти учащихся. Имѣются здѣсь въ виду случаи подсказовъ въ обыч-
ной катихизаціи, когда преподаватель подсказываетъ первое слово
ожидаемаго отвѣта, въ томъ, напримѣръ, соображеніи, что «ученикъ
знаетъ, что сказать, но не знаетъ, к&къ начать,»—или когда препода-
ватель, предполагая, напримѣръ, слышать, какъ это и было, отъ уче-
ника отвѣтъ, начинающійся словомъ: «въ содержаніи», подсказываетъ
ему: «въ со... въ со...» Привычныя ассоціаціи
мысли иногда помога-
ютъ ученику и по этимъ намекамъ попасть на слѣдъ искомаго отвѣта,
а затѣмъ, при дополнительныхъ подсказахъ преподавателя, болѣе
или менѣе благополучно добраться и до конца требуемаго отвѣта.
Подобныя дидактическія ошибки въ преподаваніи иногда глу-
боко сказываются на успѣхахъ учащихся. Если случалось, что
преподаватель усвоивалъ себѣ болѣе или менѣе опредѣленную при-
вычку—говоритъ за ученика, то ученики нерѣдко не только не давали
себѣ труда съ должнымъ
вниманіемъ относиться къ преподаваемому
предмету, но и не безъ успѣха изыскивали способы,—не зная уро-
ковъ, оказываться при достаточно хорошихъ балдахъ за отвѣты,
дававшіеся ими при содѣйствіи не замѣчающаго своихъ дидакти-
ческихъ ошибокъ преподавателя.
Заслуживаютъ затѣмъ быть отмѣченными нѣкоторыя ошибки,
допускаемыя преподавателями въ отношеніи къ учебникамъ.
18
Учебникъ для сознанія учащихся имѣетъ большое значеніе:
это—авторитетъ, предъ которымъ преклоняется ихъ мысль, въ по-
ниманіе и усвоеніе котораго они постоянно углубляются, тратя на
это ежедневно столько своей молодой энергіи. Что учебники могутъ
имѣть и дѣйствительно имѣютъ обычно недостатки въ томъ или иномъ
отношеніи, въ эту сторону дѣла мысль учащихся, по малому еще
ихъ возрасту и, во всякомъ случаѣ, недостаточному развитію, не
углубляется.
Въ учебникѣ сказано такъ-то, или преподаватель ска-
залъ такъ-то: это—совершенно достаточный для учащагося въ дан-
номъ возрастѣ аргументъ. Сводить учащагося съ этой точки зрѣнія
не только преждевременно, потому что учащійся все равно не пой-
метъ всего существа дѣла надлежащимъ образомъ,—но и вредно,
такъ какъ для ума малолѣтняго учащагося не останется тогда ни-
какой опоры: учебникъ не хорошъ,—вѣрить ему нельзя; * учитель,
хоть и говоритъ противъ учебника, но все же самъ лучшаго
учеб-
ника не пишетъ,—чему же вѣрить, на что опереться, и зачѣмъ
заставляютъ тратить столько труда на негодные учебники? Препо-
даватель долженъ входить въ эту дѣтскую психологію и не разру-
шать въ сознаніи учениковъ авторитета учебника.
Противъ этого, однако, весьма нерѣдко погрѣшаютъ преподава-
тели, то пренебрежительно - критически отзываясь объ учебникѣ,
какъ неудовлетворительномъ, невѣрномъ, то выставляя свою лич-
ность, какъ авторитетъ, высшій учебника. «У васъ тамъ въ
учеб-
никѣ сказано»: слышится нерѣдко на урокѣ пренебрежительное за-
мѣчаніе преподавателя. Или: «въ учебникѣ у васъ объ этомъ не-
вѣрно сказано,—поправьте». Всѣ подобнаго рода замѣчанія едва ли
умѣстны въ классѣ.
Скажутъ: какъ же быть? Ужели не поправлять невѣрностей
учебника и молчать о нихъ? Молчать не слѣдуетъ, и необходимыя
поправки нужно дѣлать. Но слѣдуетъ избѣгать при этомъ не отно-
сящихся собственно къ дѣлу критическихъ замѣчаній пренебрежи-
тельнаго къ учебнику
характера. Если же учебникъ дѣйствительно
нехорошъ и неудобенъ, то преподавателю слѣдуетъ или ввести но-
вый, или самому написать лучшій.
Имѣетъ значеніе также вопросъ объ отношеніи къ учебнику
дѣлаемыхъ преподавателями объясненій. Мнѣ приходилось наблю-
дать, что преподаватели иногда не приноравливаютъ своихъ разъяс-
19
неній къ тексту учебника, вслѣдствіе чего ученикъ, читая послѣ
того, при приготовленіи урока, по своему учебнику, встрѣчается
съ иными совершенно ассоціаціями мысли, чѣмъ какія составились у
него подъ вліяніемъ объясненій наставника. Думается, что этимъ
дается ученику только лишній трудъ, не всегда для него посиль-
ный, чтобы приспособить слышанныя имъ объясненія къ тексту учеб-
ника и полнѣе понять его. Сомнительна и полезность этой ра-
боты—перестраивать
сложившійся ассоціаціи, такъ какъ вообще въ
отношеніи къ малолѣтнему учащемуся цѣлесообразнѣе принять за
правило: разъ установившіяся ассоціаціи, по возможности, охранять
отъ ломки и только постепенно восполнять и разъяснять ихъ.
Конечно, не составляетъ особаго достоинства и обратный этому
пріемъ—лишь повторять текстъ учебника въ объясненіяхъ настав-
ника. Но преподаватель сумѣетъ найти средину между этими край-
ностями и, внося въ учебникъ новое дополнительное содержаніе,
сумѣетъ
приноровить его къ ходу мыслей учебника, такъ чтобы
эти новые элементы для сознанія учащихся дѣйствительно имѣли
значеніе разъясненій къ учебнику и расширяли ихъ умственный
кругозоръ.
III.
Среди общихъ сторонъ постановки учебнаго дѣла въ духов-
ныхъ училищахъ, о которыхъ представлялось бы неизлишнимъ ска-
зать нѣсколько словъ, имѣются и такія, которыя относятся къ числу
учебныхъ пріемовъ внѣшняго порядка.
Такъ, въ нѣкоторыхъ духовныхъ училищахъ держатся та-
кого способа
спрашиванія учащихся, что преподаватель обязательно
для отвѣта вызываетъ ученика на средину класса. Примѣняется
этотъ порядокъ не въ старшихъ только классахъ, но и въ млад-
шихъ, до перваго и приготовительнаго класса включительно. Дѣ-
лается это обычно въ томъ соображеніи, что имѣется въ виду
лишить учениковъ возможности подсказывать своимъ товарищамъ.
Такой пріемъ спрашиванія учащихся въ отношеніи къ младшимъ
классамъ, до приготовительнаго включительно, приходилось мнѣ
встрѣчать
и въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ.
Вызываніе ученика на средину неизбѣжно соединяется съ
нѣкоторою непроизводительною тратою учебнаго времени, пока
20
одинъ ученикъ, находящійся на срединѣ, уйдетъ и на его мѣсто
придетъ изъ-за партъ другой ученикъ, тѣмъ болѣе, что парты не-
рѣдко бываютъ трехмѣстныя, четырехмѣстныя и болѣе, и выходъ
ученика иногда бываетъ сопряженъ съ разными затрудненіями:
сначала выдвинутся изъ-за парты два-три ученика, дадутъ дорогу
вызванному для отвѣта ученику, — потомъ выходитъ уже на сре-
дину класса этотъ послѣдній ученикъ. Съ такими же затрудне-
ніями въ то же время
совершается возвращеніе на свое мѣсто
отвѣчавшаго на срединѣ ученика. Само собою понятно, что на всѣ
эти передвиженія требуется время, — классъ находится въ молча-
ніи, занятый созерцаніемъ этихъ передвиженій. Итакъ, не только
понапрасну тратится дорогое учебное время, но и ослабляется вни-
маніе класса, а оживленіе духовное замѣняется физическимъ дви-
женіемъ среди учащихся. Иногда случается, что преподаватель, на-
примѣръ въ младшихъ классахъ, или при контрольныхъ вопросахъ
изъ
урока или изъ пройденнаго, начинаетъ быстро перебирать фа-
миліи учениковъ. Тогда въ классѣ происходитъ суетливое движе-
ніе — однихъ къ столу наставника, другихъ обратно отъ наставни-
ческаго стола къ партамъ, — по пути иногда получается столкнове-
ніе спѣшащихъ туда и сюда учениковъ. Въ нѣкоторомъ смыслѣ —
картина оживленная, только едва ли полезная и нужная съ педаго-
гической точки зрѣнія.
Противъ вызыванія учащихся для отвѣта на средину класса
принципіально едва ли могутъ
имѣться основанія возражать; но
требуется примѣнять этотъ пріемъ, съ одной стороны, главнымъ
образомъ въ старшихъ классахъ, съ другой — въ относительно рѣд-
кихъ случаяхъ. Сколько я могъ видѣть, не теряютъ ничего и тѣ пре-
подаватели, которые совершенно не прибѣгаютъ къ вызыванію уча-
щихся на средину класса и всегда выслушиваютъ ученика изъ-за
парты. Напротивъ даже они много выигрываютъ въ живости урока,
въ экономіи времени, въ поддержаніи вниманія въ классѣ, когда,
въ случаѣ
нужды, перебираютъ, по вопросамъ, учащихся, требуя
отъ нихъ и вниманія, и знанія, и быстрыхъ отвѣтовъ. Въ млад-
шихъ классахъ особенно часто приходится наставнику, напримѣръ
при катихизаціи урока, прибѣгать къ постоянному спрашиванію то
одного, то другого ученика. Ужели каждый разъ вызывать ихъ
для этого на средину класса?
21
Правда, здѣсь возникаетъ вопросъ о возможности заглядыва-
нія ученика въ книгу или пользованія его услугами подсказываю-
щихъ товарищей. Но для предупрежденія этого не требуется ни-
какихъ особыхъ мѣръ: нуженъ только зоркій глазъ преподавателя, и
нужна правильная дисциплина въ классѣ.
Въ защиту вызыванія на средину класса указываютъ иногда
на то, что этимъ путемъ имѣется въ виду пріучить ученика не
смущаться говорить, стоя одиночно среди класса.
Упражненіе —
сомнительное по послѣдствіямъ и едва ли нужное. Скорѣе, вмѣсто
пріобрѣтенія смѣлости, ученикъ, смутившись, лишній разъ скажетъ
какую-нибудь несообразность при отвѣтѣ. Во всякомъ случаѣ для
пріученія къ публичному произношенію чего-либо, напримѣръ, сти-
хотвореній, литературныхъ образцовъ, даже рѣчей, имѣются другія,
болѣе соотвѣтственныя этой цѣли средства, чѣмъ вызываніе учени-
ковъ для отвѣтовъ на средину класса во время урока, когда пріемъ
этотъ бываетъ соединенъ
съ разными неудобствами для прямыхъ
нуждъ урока.
Другой вопросъ—о простановкѣ балловъ въ связи съ тѣми же
вызываніями учениковъ на средину класса или вообще спрашива-
ніемъ учениковъ. Нѣкоторые преподаватели находятъ, что вызыва-
ніе учениковъ на средину даетъ наставнику право считать такой
отвѣтъ ученика достаточнымъ для оцѣнки его опредѣленнымъ бал-
ломъ; иначе, говорятъ, трудно положить грань между спрашива-
ніями за партой: какой отвѣтъ считать подлежащимъ оцѣнкѣ опре-
дѣленнымъ
балломъ и какой не считать таковымъ. И ученики, до-
бавляютъ преподаватели, защищающіе такую систему, опредѣленно
знаютъ, какой отвѣтъ ихъ считается отвѣтомъ на баллъ и какой
принимается за отвѣтъ, не подлежащій оцѣнкѣ опредѣленнымъ балломъ.
Полагаемъ, что преподаватели напрасно стѣсняютъ себя та-
кими условіями для простановки балловъ ученику за отвѣты и
пріучаютъ къ тому же учениковъ, которые потомъ, по привычкѣ,
начинаютъ думать, что только тогда баллъ за отвѣтъ и законенъ,
когда
онъ поставленъ ученику, побывавшему на срединѣ класса или
у классной доски. Преподавателю необходимо предоставить больше
свободы въ отношеніи къ простановкѣ балловъ: когда и за что про-
ставить баллъ ученику и когда такового балла не проставлять,—
вопросъ этотъ долженъ быть всецѣло предоставленъ усмотрѣнію
22
преподавателя. Иначе какъ же можетъ быть удержанъ авторитетъ
преподавателя, если ученикъ будетъ считать себя въ правѣ опре-
дѣлять для наставника условія, при которыхъ онъ можетъ поста-
вить ему баллъ за отвѣтъ? Съ другой стороны, долгъ наставника
быть объективнымъ и внимательнымъ при произнесеніи своихъ
сужденій о знаніяхъ учениковъ простановкою имъ опредѣленныхъ
балловъ, такъ чтобы недоразумѣній по этому предмету между нимъ
и учениками не
могло возникать, а встрѣчающіяся недоумѣнія
всегда легко можно разрѣшить, переспросивъ ученика, если онъ
желаетъ исправить полученный имъ баллъ.
Съ простановкою балловъ иногда соединяется другая сторона,
имѣющая въ жизни учебнаго заведенія нерѣдко немаловажное зна-
ченіе: простановка балловъ низкихъ принимается за мѣру учебно-
воспитательнаго воздѣйствія на учащихся. По этимъ соображеніямъ
преподаватель иногда щедро ставитъ двойки и единицы учащимся,
думая этимъ побудить ихъ къ
болѣе усерднымъ занятіямъ его пред-
метами. Приходилось встрѣчаться съ случаями, когда преподавате-
лемъ ставились въ классномъ журналѣ ученикамъ единицы съ особою
выразительностію въ видѣ цифръ необычной высоты и необычно силь-
наго нажима, такъ что испещренныя единицами страницы журнала
имѣли очень своеобразный видъ. Въ большинствѣ же случаевъ, ко-
нечно, вопросъ этотъ ставился мягче, единицы и двойки пестрили
журналъ съ относительною умѣренностію, но все же многія изъ нихъ
проставлялись
въ видѣ особаго способа поощренія ученика къ заня-
тіямъ. И такого взгляда иногда держится цѣлая корпорація учеб-
наго заведенія (случалось съ этимъ встрѣчаться какъ въ мужскихъ
духовныхъ училищахъ, такъ и въ женскихъ училищахъ), находя,
что въ теченіе учебнаго года полезно производить строгую оцѣнку
отвѣтовъ учащихся, чтобы потомъ, на экзаменахъ, при сведеній
итоговъ учебнаго года, можно было нѣсколько и уменьшить требо-
вательность въ отношеніи къ отвѣтамъ учащихся.
Полагаемъ,
что даже и въ такомъ ослабленномъ видѣ разсма-
триваемая точка зрѣнія на единицы и двойки едва ли правильна
по существу и едва ли полезна для дѣла. Оцѣнка знаній учащихся
всегда должна быть одинаковая, выдержанная и справедливая, безъ
всякихъ излишнихъ требованій и безъ всякихъ излишнихъ послаб-
ленія И это — лучшее учебно-воспитательное средство для уча-
23
щихся, если мы хотимъ пріучить ученика къ внимательному отно-
шенію къ своимъ обязанностямъ. Учащіеся, живя мыслію и серд-
цемъ въ области идей, бываютъ особенно чутки къ правдѣ и ин-
стинктивно замѣчаютъ всякое уклоненіе отъ нормы, будетъ ли это
излишняя требовательность, или излишняя уступчивость со стороны
наставника.
Наблюденія и замѣчанія по преподаванію отдѣль-
ныхъ предметовъ.
I.
Переходя къ замѣткамъ относительно преподаванія
отдѣльныхъ
учебныхъ предметовъ, останавливаюсь, прежде всего, на Законѣ
Божіемъ,
Св. исторія, которою начинается въ духовномъ училищѣ пре-
подаваніе Закона Божія, повидимому, съ дидактической точки зрѣ-
нія настолько проста для преподаванія, что относительно ея меньше
всего можетъ быть допускаемо какихъ-либо дидактическихъ недо-
статковъ, тѣмъ болѣе, что къ изученію ея приступаютъ въ духов-
номъ училищѣ послѣ предварительнаго знакомства учащихся съ
краткою св. исторіею Ветхаго
и Новаго Завѣта.
Но, кажется, эта самая простота преподаванія и является не-
рѣдко главною причиною встрѣчающихся на практикѣ въ обильномъ
количествѣ разныхъ дидактическихъ недостатковъ въ отношеніи къ
этому предмету. Св. исторія преподается помощниками смотрителя,
лицами, такъ или иначе, но только не въ преподаваніи св. исто-
ріи, выгодно заявившими себя до назначенія ихъ на эту админи-
стративную должность. И вотъ лицо, съ успѣхомъ преподававшее
напр., ариѳметику съ географіей,
или одинъ изъ древнихъ языковъ,
или русскій языкъ, съ назначеніемъ на административную должность
помощника смотрителя, приступаетъ къ преподаванію св. исторіи
въ I и II классахъ училища. Мысли и заботы его главнѣйшимъ
образомъ сосредоточены на административно-воспитательной дѣя-
тельности по училищу, какъ наиболѣе трудной, сложной и важной.
Неудивительно, что, при подобныхъ обстоятельствахъ, такой обще-
извѣстный съ малолѣтства для всѣхъ, не только что для спеціалиста-
24
богослова, предметъ, какъ св. исторія, тѣмъ болѣе явится для пре-
подавателя въ положеніи учебнаго предмета, слишкомъ простого,
яснаго для преподаванія и не требующаго особаго для себя труда
со стороны наставника.
Начинается преподаваніе, п, дѣйствительно, все идетъ съ
извѣстной точки зрѣнія успѣшно: раскрывается книжка учебника,
гдѣ все сказано такъ ясно и точно; по ней безъ затрудненій раз-
сказываетъ наставникъ, и такъ же безъ особаго труда
заучиваютъ
одинъ за другимъ священно-историческіе разсказы ученики. Дѣло
идетъ съ достаточнымъ успѣхомъ: баллы получаются учениками удо-
влетворительные, а иногда и хорошіе.
Такова довольно нерѣдкая картина. Проста и методика пред-
мета, умѣщающаяся въ двухъ словахъ—разсказать и повторить;
просто и дѣло ученика—учить по учебнику. Иногда, за такою про-
стотою дѣла, оно упрощается еще больше: прямо дается ученикамъ
приготовить къ слѣдующему классу дальнѣйшую св. исторію, и они
выучиваютъ
ее по учебной книжкѣ.
Приходилось вслѣдствіе этого встрѣчаться съ тѣмъ, что на-
ставникъ, при объясненіяхъ учащимся, не углублялся анализомъ
преподаваемаго содержанія до болѣе широкаго пониманія того или
другого мѣста изъ священно-историческаго разсказа. Передается,
напр.,—возьму для примѣра такой случай,—евангельское повѣство-
ваніе о посланіи Іисусомъ Христомъ апостоловъ на проповѣдь, гдѣ
говорится, между прочимъ: «миръ вашъ къ вамъ возвратится»
(Матѳ. 10, 13); слова эти произносятся
изъ учебной книжки препо-
давателемъ и учениками, какъ само собою понятныя. Но потомъ
оказывается, что въ дѣйствительности они не только непонятны
ученикамъ, но и преподаватель затрудняется объяснить ихъ. Про-
стота предмета нерѣдко ведетъ къ тому, что у преподавателя не-
достаетъ свѣжести, глубины и полноты знаній, которыя не поднов-
ляются и не расширяются. Оттого и у учениковъ, не смотря на
обычное ихъ усердіе въ изученіи текста учебника, имѣются не-
рѣдко значительные пробѣлы
въ отношеніи къ пониманію того, что
они отвѣчаютъ и съ перваго взгляда иногда какъ-бы и знаютъ.
Довольно обычный фактъ, что, разсказывая о священно-исто-
рическомъ событіи или объясняя то или иное мѣсто изъ Евангель-
скаго ученія или изъ ветхозавѣтныхъ пророчествъ, наставникъ не
25
обращается ни къ Библіи, ни даже къ Евангелію. Объясняетъ, напр.
преподаватель изъ новозавѣтной священной исторіи предсказаніе
Іисуса Христа о разрушеніи храма и Іерусалима и о кончинѣ міра:
это объясненіе состоитъ лишь въ передачѣ словъ учебной книжки
протоіерея Соколова или Попова,—по Евангелію же ничего при
этомъ не прочитывается, и даже Евангеліе ученикамъ не показы-
вается. Или разсказывается наставникомъ притча о мытарѣ и фа-
рисеѣ,—также
по учебной книжкѣ,—ученики разсказъ преподавателя
повторяютъ, и больше ничего. Опять точно не существуетъ Еванге-
лія, откуда взято изложеніе этой притчи и въ учебникѣ. Не гово-
римъ уже о славянскомъ Евангеліи, къ которому тоже слѣдовало
бы въ подобныхъ случаяхъ обращаться. Тогда не получалось бы,
что, напримѣръ, передавая притчу Іисуса Христа о равной на-
градѣ работникамъ въ виноградникѣ, ученики знаютъ динарій, его
вѣсъ и цѣнность, а славянское слово «пѣнязь» (Матѳ. 20, 2 и др).
остается
совершенно невѣдомымъ имъ, хотя въ богослуженіи Еван-
геліе читается у насъ всегда по славянскому тексту. Не видя сла-
вянскаго текста и читая по русской учебной книжкѣ, ученики при-
выкаютъ даже и слово мытарь произносить неправильно—«мытарь».
Изучается также, напримѣръ, по учебнику исторія Синайскаго за-
конодательства, читаются 10 заповѣдей Закона Божія: и преподава-
телю не приходитъ на мысль показать ученикамъ начертаніе этихъ
заповѣдей въ Библіи и прочесть ихъ въ классѣ по Библіи!
Для
чего?! Въ учебникѣ вѣдь это есть... Приводятся пророчества Исаіи
объ Эммануилѣ, о страданіяхъ Спасителя на крестѣ, даже заучи-
ваются нѣкоторыя мѣста изъ этихъ пророчествъ. Но Библія уче-
нику не показывается, и соотвѣтственныхъ мѣстъ изъ книги пророка
Исаіи не прочитывается. Повидимому, совершенно естественно бы,
начиная повѣствованіе о твореніи міра, притомъ въ окончательномъ
и систематическомъ курсѣ священной исторіи, раскрыть Библію и
прочесть по ней хотя бы нисколько
строкъ изъ 1 гл. книги Бытія,
чтобы учащіеся имѣли, по крайней мѣрѣ, нѣкоторое представленіе о
первыхъ страницахъ Библіи. И, однако, гдѣ это дѣлается?
Библія ученикамъ, вообще, мало гдѣ и показывается. Мнѣ
приходилось встрѣчать не мало случаевъ, когда ученики I и II класса
училища совершенно не видѣли Библіи и понятія о ней не имѣли,
и если встрѣчались среди нихъ такіе, которые видѣли Библію, то
26
они видѣли ее—одни «въ книжномъ магазинѣ», другіе—«дома у
отца», третьи—су брата, учащагося въ семинаріи», и т. п. Ино-
гда преподаватель приносилъ въ классъ Библію и только показы-
валъ ее ученикамъ издали. А иногда преподаватель ограничи-
вался относительно Библіи сообщеніемъ ученикамъ, что «это—боль-
шая книга».
Оттого ученики не только не имѣли самыхъ общихъ конкрет-
ныхъ свѣдѣній о Библіи и, отвѣчая, напр., исторію Руѳи, исторію
Іова,
не предполагали о существованіи соотвѣтствующихъ этимъ
именамъ книгъ Священнаго Писанія, но не знали и Новаго За-
вѣта, не знали даже Евангелія. Послѣднее почти невѣроятно, но
такіе факты встрѣчаются: въ одномъ училищѣ я, переспросивъ во
ІІ-мъ классѣ (гдѣ проходили священную исторію Новаго Завѣта),
половину учениковъ, едва нашелъ такого, который видѣлъ Еванге-
ліе, не говоря уже о Библіи, которой никто не видѣлъ и о кото-
рой понятія не имѣли. На мой тамъ же вопросъ отвѣчавшему уче-
нику:
«видѣлъ ли онъ Новый Завѣтъ?»—былъ полученъ отвѣтъ,
«видѣлъ». Но при этомъ оказалось, что подъ Новымъ Завѣтомъ онъ
разумѣлъ учебникъ священной исторіи Новаго Завѣта, составлен-
ный протоіереемъ Соколовымъ.
Недостатки эти встрѣчаются въ отношеніи къ преподаванію
священной исторіи какъ въ мужскихъ духовныхъ училищахъ, такъ
и въ женскихъ,—въ послѣднихъ, впрочемъ, въ меньшей мѣрѣ, —
быть можетъ, потому, что тамъ имѣется меньше поводовъ считать
священную исторію за простой предметъ
преподаванія. Бывали,
однако, случаи, что и тамъ преподаватель прекрасно разсказывалъ
почти лекцію о седьминахъ Даніиловыхъ, опустивъ изъ вниманія
сказать хотя бы то, что все разсказываемое имъ взято у него изъ
Библіи. Прочесть же по Библіи наиболѣе важныя мѣста объ этомъ:
или, что еще лучше, предложить воспитанницамъ сдѣлать это, тѣмъ
болѣе не представилось необходимымъ съ точки зрѣнія наставника.
Въ другомъ училищѣ воспитанницы (II класса) разсказывали по
учебнику о страданіяхъ
Спасителя, не зная въ то же время, что
разсказы эти взяты изъ Евангелія, что Евангелія написаны че-
тырьмя Евангелистами, и не имѣя какого-либо опредѣленнаго пред-
ставленія о содержаніи Евангеліи.
Вопросъ, всѣмъ этимъ затрогиваемый, имѣетъ существенно-
27
важное значеніе, и не столько дидактическое учебно - школьное, но
еще болѣе—жизненное.
Приходилось слышать въ оправданіе вышеуказанныхъ фак-
товъ, что обращаться при преподаваніи священной исторіи Ветхаго
и Новаго Завѣта къ книгамъ Священнаго Писанія по однимъ—
трудно, по другимъ—даже вредно.
Трудно: въ какомъ смыслѣ? Для преподавателя, дѣйствительно,
легче разсказать по книжкѣ учебника прот. Соколова, Попова или
Смирнова и тѣмъ ограничиться.
Правда и то, что для того, чтобы
пользоваться Священнымъ Писаніемъ на урокахъ, нужно знать
Священное Писаніе; слѣдовательно, нужно потрудиться надъ этимъ.
Но такой трудъ со стороны наставника—дѣло законное и необхо-
димое. Въ томъ и главная причина недочетовъ въ преподаваніи
священной исторіи, что предметъ этотъ считается простымъ и не
требующимъ особаго труда со стороны наставника. Напротивъ,
хотя и вѣрно, что предметъ этотъ—въ дидактическомъ отношеніи
несложный, но не менѣе
вѣрно и то, что со стороны преподавателя
требуется немало труда, чтобы повести преподаваніе его надле-
жащимъ образомъ. Священная исторія захватываетъ все существо
Священнаго Писанія и православнаго богословія, и нужно тонко
и точно знать эти предметы, чтобы умѣть надлежаще преподать
ученикамъ священную исторію.
Но, требуя отъ преподавателя труда, дѣло это представляется
простымъ и удобнымъ съ дидактической стороны. Не экзегетическое
чтеніе Священнаго Писанія имѣется въ виду при
прохожденіи свя-
щенной исторіи, а, во-первыхъ, прежде всего, конкретное знакомство
учащихся съ книгами Священнаго Писанія, т. е. они должны знать
и видѣть Библію, Новый Завѣтъ и Евангеліе, а равно и общій
ихъ составъ,—книги эти не должны быть для нихъ невѣдомыми
книгами, равно какъ недостаточно, чтобы ученики только издали ви-
дѣли Библію и могли о ней только сказать, что это—большая книга;
во-вторыхъ, при самомъ объясненіи уроковъ преподаватель долженъ
наиболѣе важныя мѣста
изъ того, что онъ приводитъ, тутъ же про-
читывать въ классѣ, такъ чтобы въ мысли учащихся содержаніе
священной исторіи, по возможности, ближе соединялось съ источ-
никомъ ея—священными книгами. При знаніи преподавателемъ
Библіи, для него не составитъ труда прочесть самому или дать
28
прочесть ученикамъ, во время самаго же урока, наиболѣе суще-
ственное изъ объясняемыхъ мѣстъ Библіи, а иногда хотя бы даже
показать, что есть такая-то книга въ Библіи (напр., упомянутыя
выше книги Руѳь и Іова). При такомъ преподаваніи въ сознаніи
учащихся яснѣе и отчетливѣе будетъ восприниматься содержаніе
преподаваемаго урока и лучше будетъ помниться, чѣмъ если бы то
же самое отвлеченно усвоялось по однимъ только учебнымъ книж-
камъ. Глубина
пониманія священно-историческихъ событій и, во-
обще, исторіи спасенія человѣческаго рода будетъ у ученика, при
такомъ способѣ веденія объясненій, тоже значительно выше.
Понятно, что при подобномъ взглядѣ на дѣло указаніе на воз-
можность какого-то вреда отъ знакомленія учащихся съ книгами
Священнаго Писанія составляетъ недоразумѣніе, которому развѣ
только съ католической точки зрѣнія относительно неумѣстности
знакомства мірянъ съ Библіею можно находить какія-либо оправда-
тельныя
соображенія.
Но зато глубоко вредно, что установился почти обычай пре-
подавать священную исторію и, вообще, Законъ Божій только по
учебнымъ книжкамъ прот. Попова, Смирнова, Соколова и проч.
Сектанты, изучающіе Священное Писаніе, пусть и по-своему, не-
правильно, показываютъ съ достаточною убѣдительностію, что до-
вольно распространенная практика въ этомъ отношеніи стоитъ на
ложномъ пути. Хотя бы и неправильно, съ искаженіемъ, но сек-
танты свою религіозную мысль и свои религіозныя
чувства обра-
щаютъ къ Священному Писанію. А къ чему направляется мысль
учащагося при изученіи имъ въ школѣ основаній христіанскаго
ученія? Къ школьнымъ учебнымъ книжкамъ? Психологія мальчика
понятна, когда онъ начинаетъ говорить: Новый Завѣтъ—это учеб-
ныя книжки протоіерея Соколова съ изложеніемъ священной исто-
ріи Новаго Завѣта. Здѣсь—первыя сѣмена равнодушія его къ Свя-
щенному Писанію: его не пріучали интересоваться чтеніемъ Еван-
гелія и соединять съ этою книгою свои мысли
и чувства,—чужою
можетъ остаться для него эта книга и на всю жизнь. Нужно не за-
бывать, что на урокахъ Закона Божія изучается слово Божіе; слово
же Божіе находится въ Священномъ Писаніи, а не въ школьныхъ
учебникахъ, которые являются лишь только въ положеніи пособій
для уразумѣнія и усвоенія Священнаго Писанія.
29
Для успѣха преподаванія,—слѣдуетъ замѣтить,—важно, чтобы
ознакомленіе учащихся, при прохожденіи священной исторіи въ
I—II классахъ училища, съ книгами Священнаго Писанія не было
обращено въ какое-либо тягостное для нихъ особое дѣло; оно должно
быть соединяемо съ объясненіями наставника, какъ иллюстрирую-
щій, оживляющій и восполняющій его объясненія методическій
пріемъ, не требующій со стороны ученика какого-либо иного труда,
а лишь только
вспомоществующій усвоенію того, что все равно онъ
будетъ учить по учебнику. Неправильно поэтому, думаемъ, посту-
паютъ и тѣ, кто, какъ мнѣ приходилось встрѣчать, проходя свя-
щенную исторію Новаго Завѣта, статья за статьею, по учебнику,
читаютъ потомъ съ учениками по Евангелію соотвѣтственныя мѣста
въ свободныя классныя минуты, когда придется, иногда чрезъ
1—1 1/2 мѣсяца послѣ прохожденія о томъ же по учебнику. Такое
чтеніе, хотя и лучше, чѣмъ ничего и никогда не читать, все же не
можетъ
приносить должной пользы учащимся, такъ какъ раздѣлено
большимъ промежуткомъ времени отъ соотвѣтственныхъ уроковъ
Закона Божія въ классѣ: нужно дѣлать это, вообще, не послѣ объяс-
неній урока наставникомъ, а во время такихъ объясненій и въ
связи съ ними. Какъ по математикѣ наставникъ объясняетъ то или
иное положеніе и одновременно пишетъ, что требуется, на доскѣ,
такъ и въ настоящемъ случаѣ наставникъ дѣлаетъ извѣстныя
объясненія и одновременно обращается къ Библіи, показываетъ, что
нужно,
самъ прочитываетъ по священной книгѣ то или иное мѣсто
или предлагаетъ сдѣлать это ученику и проч. Словомъ, идетъ одна
непрерывная работа, одновременно охватывающая разныя стороны
преподаваемаго учебнаго матеріала.
Съ этимъ должно быть соединено и пользованіе другими
наглядными учебными пособіями, какія имѣются въ училищѣ,
по крайней мѣрѣ—географическими картами, священно-историче-
скими картинами, чертежами (напримѣръ, Іерусалимскаго храма,
скиніи). Въ дѣйствительности столь
обычными пособіями при пре-
подаваніи не пользуются, или пользуются недостаточно или непра-
вильно.
Такъ, напримѣръ, священно-географическая карта встрѣчается
въ училищахъ обычно только такая, гдѣ изображена одна Палестина;
карты же, принаровленной для изученія ветхозавѣтной священной
30
исторіи, т. е. съ Египтомъ и Аравіей, также—и Месопотаміи, обычно
не имѣется, даже болѣе,—рѣдко гдѣ я ее встрѣчалъ. Случалось
слышать, что о существованіи такихъ географическихъ картъ и не
знаютъ совершенно. Конечно, можно было бы въ крайнемъ случаѣ
обращаться для этого къ глобусу и къ общимъ географическимъ
картамъ (хотя бы полушаріи). Но и этого не дѣлалось. Самое боль-
шее, что заглядывали въ чертежъ географической карты, имѣв-
шейся при
учебной книжкѣ, хотя и это дѣлалось не всегда.
Вслѣдствіе этого священно - географическія свѣдѣнія у учащихся
бываютъ обычно самыя недостаточныя, а иногда, говоря о Пале-
стинѣ, Египтѣ, ученики и совершенно не имѣли представленія, гдѣ
находятся эти страны. Даже на вопросъ: въ какой части свѣта
находится Египетъ?—часто не давалось ученикомъ отвѣта, или уче-
ники говорили, напримѣръ: Египетъ находится въ Европѣ, Пале-
стина—въ Африкѣ, гору Синай указывали въ Палестинѣ и проч.
Преподаватель
въ подобныхъ случаяхъ иногда пояснялъ, оправды-
вая такое незнаніе учениковъ: «географіи еще не учили въ этомъ
классѣ (I классѣ)».
И въ женскихъ училищахъ приходится встрѣчаться съ тѣмъ
же дидактическимъ недостаткомъ: и тамъ въ I—II классахъ иногда
не знаютъ, даже приблизительно, гдѣ находится Палестина,—далеко
ли, близко ли отъ насъ, но, во всякомъ случаѣ, полагая, что она
находится въ Россіи.
На священно-историческія картины, тѣмъ болѣе, мало обра-
щается вниманія при преподаваніи
священной исторіи. Даже и то-
гда, когда онѣ есть въ училищѣ, для нуждъ, напримѣръ, пригото-
вительнаго класса, или по другой причинѣ, не приносили ихъ въ
классъ, точно полагая, что ученики I класса училища, и тѣмъ болѣе
II класса, переросли такія элементарныя пособія. Случалось слышать
и такія оправдательныя сужденія, что пользованіе священно-исто-
рическими картинами вредно при преподаваніи священной исторіи.
Почему?—нелегко было бы понять. Впрочемъ, при неправильномъ
пользованіи,
всякое учебное пособіе можно сдѣлать, если не вред-
нымъ, то малополезнымъ или даже безполезнымъ.
Имѣетъ немаловажное значеніе и пользованіе чертежами при
прохожденіи священной исторіи, напримѣръ, чертежами скиніи, Іеру-
салимскаго храма. Полезно предлагать ученикамъ въ приблизи-
31
тельномъ чертежѣ на классной доскѣ указывать географическое по-
ложеніе тѣхъ или другихъ священно - историческихъ мѣстностей,
городовъ, горъ. рѣкъ. Все это будетъ много способствовать ясности
и отчетливости усвоенія изучаемаго содержанія, особенно въ отно-
шеніи къ тѣмъ изъ учениковъ, которые имѣютъ память зрительнаго
или моторнаго типа.
Конечно, не съ одними только такими недочетами приходи-
лось мнѣ встрѣчаться въ духовныхъ училищахъ: видѣлъ
я и безу-
коризненно хорошее преподаваніе, или преподаваніе, въ которомъ
одинъ какой-либо недочетъ съ избыткомъ покрывался имѣвшимися
достоинствами. Но тѣмъ лучше станетъ, если не будетъ встрѣчаться
и вышеуказанныхъ недостатковъ.
Особо близкое отношеніе преподавателя къ учебной книжкѣ.
пересказъ содержанія которой составляетъ все существо преподава-
тельскихъ объясненій, ведетъ само собою къ новому неизбѣжному
недостатку—къ суженію содержанія того учебнаго матеріала, кото-
рый
подлежитъ изученію въ священной исторіи. Изучается въ свя-
щенной исторіи собственно не исторія, какъ таковая/ а—домо-
строительство спасенія человѣческаго рода. Слѣдовательно, вопро-
совъ изъ христіанскаго ученія въ св. исторіи и чрезъ нее затроги-
вается много, какъ это даже внѣшне особенно видно въ св. исторіи
Новаго Завѣта, гдѣ излагается съ достаточною подробностію именно
ученіе Спасителя. Для наставника открывается этимъ широкій про-
сторъ для объясненій, въ которыхъ не только
можетъ, но и должно
быть, въ доступной для дѣтскаго пониманія мѣрѣ, изложено основ-
ное существо христіанскаго богословія и существо вслѣдъ затѣмъ
изучаемаго въ училищѣ катихизиса, съ болѣе подробнымъ и пол-
нымъ изложеніемъ христіанскихъ истинъ. Но коль скоро учебникъ
своими строками опредѣляетъ преподавательскія объясненія, коль
скоро наставникъ только разсказываетъ по учебнику, а ученикъ
учитъ потомъ по учебнику, то получается въ результатъ то свойство
преподаванія, которое
называется книжностью его. А въ учени-
кахъ оно сказывается, какъ механическое заучиваніе словъ учеб-
ника, безъ надлежащаго разумѣнія, или, какъ обычно бываетъ,—въ
предѣлахъ вербальнаго пониманія. Въ итогѣ—нарушеніе важнѣйшаго
дидактическаго начала — жизненности преподаванія: преподается
для школы, и учатся для школы, а жизнь идетъ особо отъ этого...
32
Иногда же случается, что выдвигаются второстепенныя сто-
роны, въ ущербъ основному смыслу священной исторіи, и резуль-
таты тоже получаются не тѣ, которые должны бы быть. Внѣшняя
исторія еврейскаго народа заслоняетъ внутренній смыслъ священной
исторіи Ветхаго Завѣта, я даже во внѣшней исторіи главное и второ-
степенное мало различаются: исторія Эсѳири, напримѣръ, разска-
зывается преподавателемъ ученикамъ и требуется отъ нихъ со
всѣми подробностями,
впадающими даже въ націоналистическій нѣ-
сколько тонъ, а ученики въ то же время полагаютъ, что Давидъ былъ
сынъ Саула, о судіяхъ еврейскаго народа представленія ко вре-
мени прохожденія исторіи Эсѳири уже не сохранили, отъ царей ихъ
не отличали; вообще, отвѣчая заученными фигуральными оборотами
и возвышеннымъ слогомъ, существа дѣла не понимали.
Надлежащее освѣщеніе внутренняго смысла священно-истори-
ческихъ событій, какъ исторіи спасенія человѣческаго рода, само
собою ведетъ
и къ соотвѣтственному этому тону преподаванія. А
онъ не всегда бываетъ таковъ, какимъ бы долженъ быть: книжность
преподаванія нерѣдко мертвитъ и тонъ его, внося въ преподаваніе
сухость разсудочной рѣчи. Конечно, нерѣдко бываетъ и задушев-
ность убѣжденнаго слова, но бываетъ и то, что книжное преподава-
ніе сказывается и въ словѣ по-книжному или слово наставника по-
лучаетъ искусственно-проповѣдническій тонъ. Проникновеніе мысли
наставника въ глубокій внутренній смыслъ священной исторіи
и
разностороннее освѣщеніе ея предъ учащимися само собой найдетъ
правильное выраженіе и въ словѣ преподавателя, найдетъ потомъ
откликъ и въ душѣ учащихся. Во всякомъ случаѣ, надлежащее
воспитательное воздѣйствіе на учащихся должно входить въ прямыя
задачи преподаванія священной исторіи въ школѣ.
II.
1. Въ отношеніи къ преподаванію катихизиса встрѣчаются
нерѣдко недостатки, подобные тѣмъ, какіе были отмѣчены въ отно-
шеніи къ преподаванію священной исторіи.
И прежде всего
на Библію, на ознакомленіе съ самыми свя-
щенными книгами, далеко не всегда обращается должное вниманіе.
Когда проходятъ священную исторію по учебнымъ книжкамъ, не
33
обращаясь къ Священному Писанію, то иногда въ оправданіе
этого говорятъ, что съ священными книгами ученики познакомятся
въ старшихъ классахъ—при изученіи катихизиса. Сужденіе такое
неправильно прежде всего по существу дѣла, потому что содержа-
ніе священной исторіи, пережитое мыслію и чувствомъ учащихся
только по однѣмъ учебнымъ книжкамъ, безъ ассоціированія его
съ священными книгами, оставитъ въ душѣ каждаго глубокій слѣдъ
и вторично переживаться
при изученіи катихизиса въ такой полной
формѣ уже не можетъ: два года внутренней мыслительной работы
учащихся такъ и останутся построенными не на твердомъ фунда-
ментъ непосредственныхъ воспріятіи души учащихся отъ слова Бо-
жія, въ священныхъ книгахъ именно имѣющагося. А затѣмъ, во-
вторыхъ, и въ дѣйствительной практикѣ учебныхъ заведеній на-
дежды эти на старшіе классы училища нерѣдко не оправдываются-
Чтобы при изученіи катихизиса совершенно не обращались
къ книгамъ Священнаго
Писанія, этого, конечно, не бываетъ:
хотя что-либо въ этомъ отношеніи исполняется и хотя какіе-либо
тексты Священнаго Писанія въ классѣ по книгамъ Священнаго Пи-
санія прочитываются. Но достаточно ли этого?
Обычно обращаются только къ книгамъ Священнаго Писанія
Новаго Завѣта. Библіи и здѣсь, въ старшихъ классахъ училища,
предъ учениками не бываетъ, и неудивительно, что ученикъ, не
видавшій Библіи въ I—II классахъ, при прохожденіи священной
исторіи, и до окончанія курса остается
безъ ознакомленія съ нею,
хотя бы самаго общаго, зная о ней только по слуху и иногда лишь
то одно, что это—«большая книга». Однажды ученику IV класса,
перечислявшему на урокѣ священныя книги Ветхаго и Новаго За-
вѣта, былъ предложенъ вопросъ: чѣмъ, какимъ повѣствованіемъ
начинается Библія? Ученикъ, учившій о сотвореніи міра только по
священной исторіи протоіерея Соколова и никогда, видимо, не слы-
хавшій, что повѣствованіемъ о твореніи міра начинается Библія,
не зналъ, что сказать
на предложенный ему вопросъ, и молчалъ.
Тогда предложенъ былъ ему этотъ же вопросъ иначе: какая пер-
вая книга въ Библіи? какою книгою Священнаго Писанія начи-
нается Библія? Ученикъ называетъ книгу Бытія. Видѣлъ ли онъ
ее?—предлагается вопросъ. Видѣлъ. Гдѣ? Ученикъ быстро перевер-
тываетъ страницы катихизиса, отыскиваетъ страницу съ перечнемъ
34
на ней книгъ Священнаго Писанія, указываетъ на строку, гдѣ въ
отвѣтъ на вопросъ: «какъ исчисляются ветхозавѣтныя книги?»—на-
печатано: «1) книга Бытія»,—и говоритъ: «вотъ»!
Такимъ образомъ, оказывается, что ученикъ знаетъ о книгѣ
Бытія къ окончанію курса духовнаго училища только слова—«книга
Бытія», напечатанныя въ катихизисѣ и имъ заученный, и больше
ничего... Подобныя же свѣдѣнія онъ имѣлъ, какъ обнаружилось за-
тѣмъ, и о другихъ священныхъ
книгахъ, и не только Ветхаго
Завѣта, но даже, отчасти, и Новаго. Апокалипсисъ, напримѣръ, онъ
ищетъ въ срединѣ книги Новаго Завѣта, даже забывая, что въ учив-
шемся имъ перечисленіи книгъ Священнаго Писанія Новаго За-
вѣта Апокалипсисъ стоитъ на концѣ, какъ заключительная изъ свя-
щенныхъ книгъ Новаго Завѣта. Да и что такое «Новый Завѣтъ»,
какъ часть Библіи, онъ опредѣленно не знаетъ, такъ какъ книги
этой онъ никогда, строго говоря, и не разсматривалъ. И въ то же
время, не смотря
на столь существенные пробѣлы, нельзя сказать,
чтобы и такіе ученики не знали катихизиса, или чтобы учили его
съ недостаточнымъ усердіемъ: съ словами катихизиса они имѣютъ
нѣкоторый навыкъ обращаться. Такимъ образомъ вопросъ сводится
къ такимъ дидактическимъ недочетамъ, которые безъ затрудненія
соединяются съ школьно-принятымъ знаніемъ катихизиса.
Книжность—вотъ обычное больное мѣсто школьнаго препода-
ванія. Она же и въ данномъ случаѣ является существомъ отмѣчае-
маго дидактическаго
недостатка. Если бы не страницы учебника
опредѣляли учебное дѣло, а то живое, то жизненное, что значится
на этихъ страницахъ, тогда многое въ преподаваніи шло бы далеко
иначе. Невозможно стало бы тогда то, чтобы источникъ всего вѣро-
ученія и нравоученія христіанскаго—книги Священнаго Писанія—
былъ оставляемъ безъ должнаго къ нему вниманія и замѣнялся
составленными по нему учебными книжками.
Невозможно было бы также и то, чтобы изученіе по катихи-
зису отдѣла о молитвѣ не напоминало
преподавателю обратить вни-
маніе: знаютъ ли ученики молитвы и не слѣдуетъ ли въ этомъ
отношеніи обновить память учащихся, а въ случаѣ нужды—и дать
соотвѣтственное наставленіе учащимся? Между тѣмъ, факты такого
рода нерѣдки по училищамъ, и ученики IV класса, отвѣчавшіе по
катихизису о молитвѣ, оказывались не знающими повседневныхъ
35
утреннихъ и вечернихъ молитвъ, а въ пониманіи текста молитвъ
иногда обнаруживали неимѣніе самыхъ элементарныхъ познаній.
Напримѣръ, въ молитвѣ «Достойно есть» слова: «яко воистину»—
оказывались имъ иногда совершенно непонятными по смыслу ихъ.
Неизлишне сказать при этомъ, что едва ли допустимо въ ду-
ховной школѣ, чтобы ученики не знали также и 50-го псалма,
столь часто встрѣчаемаго ими къ тому же при изученіи церков-
наго устава. Между тѣмъ,
незнаніе его—обычное явленіе. Только
при книжно-формальномъ изученіи Закона Божія возможны такіе
пробѣлы.
Случается и то, что самыя объясненія, даваемыя при препо-
даваніи катихизиса, бываютъ мало принаровленныя къ пониманію
учащихся, а отвлеченныя обобщенныя положенія катихизическаго
ученія не расчленяются на составные свои элементы, не конкрети-
зируются и не сближаются съ жизнію. Иногда же преподаватель
входитъ въ частности, превышающій пониманіе учащихся; говоря,
напримѣръ,
о лютеранствѣ, сообщаетъ такія историческія . и иныя
подробности о Лютерѣ и лютеранствѣ, которыя умѣстны только въ
курсѣ семинаріи.
Катихизисъ—не легокъ и для преподаванія, если вести его
правильно, съ надлежащимъ анализомъ и освѣщеніемъ его содер-
жанія, а не съ вербальными только объясненіями текста катихи-
зиса; не легокъ онъ и для учащихся, отъ которыхъ требуется зна-
чительная подготовка, чтобы заучиваемый ими текстъ катихизиса
не былъ для нихъ буквою, усвоенною лишь на память.
Входить
въ этотъ вопросъ не составляетъ задачу этихъ замѣтокъ, содержа-
щихъ въ себѣ указаніе лишь на нѣкоторые фактически наблюдав-
шіеся мною недочеты преподаванія даннаго предмета.
Будетъ неизлишне указать, что рядомъ съ случаями довольно
широкаго, хотя обычно и отвлеченнаго, анализа катихизическихъ
истинъ, встрѣчаются, иногда въ тѣхъ же классахъ, факты, свидѣ-
тельствующіе, что, уходя въ глубину и даль предмета, препода-
ватель опускалъ изъ вида близкое и элементарное: ученикъ,
на-
примѣръ, вдругъ оказывался не понимающимъ прямого смысла словъ
символа вѣры: «спокланяема и сславима». Бывали и такіе случаи,
что ученикъ не понималъ, даже элементарно, словъ символа вѣры:
«Бога истинна отъ Бога истинна», «единосущна Отцу» и т. п.
36
Или вдругъ ученикъ говорилъ: Іисусъ Христосъ (а не Сынъ Божій,
Богъ Слово) предвѣчно рождается отъ Отца. Въ такомъ же смыслѣ,
впрочемъ, выражался, оказалось, и преподаватель, не считая нуж-
нымъ различать установленную терминологію наименованій Второго
Лица Пресвятой Троицы, соотвѣтственно предвѣчному Его бытію и
по воплощеніи отъ Пресвятой Дѣвы Маріи.
Въ другихъ случаяхъ преподавателемъ проводился, при
объясненіи катихизическихъ истинъ, слишкомъ
внѣшне-юридическій
взглядъ на отношенія между Богомъ и человѣкомъ въ актахъ грѣхо-
паденія человѣка, его искупленія, оправданія и спасенія; иногда
также слишкомъ выдвигалась внѣшняя сторона въ нравственной
жизни, въ ущербъ внутренней. Въ виду важнаго значенія кати-
хизиса въ системѣ предметовъ духовной школы (какъ и всякой
другой, впрочемъ), преподавателю необходимо возможно глубже и
полнѣе знать богословіе, чтобы каждое его объясненіе имѣло точ-
ный смыслъ и всесторонне отражало
въ себѣ христіанское ученіе.
Это—первыя сѣмена религіознаго пониманія, въ періодъ перехода
малолѣтка къ самосознательной внутренней жизни, и важно, чтобы
эти сѣмена были вполнѣ доброкачественныя.
Приходилось также встрѣчаться съ затрудненіями учащихся
въ пониманіи ими отношенія десяти заповѣдей Закона Божія къ
заповѣдямъ о блаженствѣ. У нихъ обычно складывалось пред-
ставленіе, что заповѣди о блаженствѣ и заповѣди Закона Божія,
стоящія въ разныхъ отдѣлахъ катихизиса, не находятся
между со-
бою во взаимной связи. Иногда заповѣди о блаженствѣ понимались,
даже какъ такія, которыя не имѣютъ для христіанина обязатель-
ности и предложены Спасителемъ для тѣхъ, кто стремится къ выс-
шему нравственному совершенствованію, какъ высшій видъ нрав-
ственной жизни христіанина, не смотря на то, что заповѣди эти
даже и начинаются ублаженіемъ перваго и необходимаго условія
всякаго вида нравственнаго совершенствованія — нищеты духовной
или смиренія предъ Богомъ. Христіанское
ученіе о нравственности,
въ основахъ своихъ ясно изложенное въ заповѣдяхъ о любви къ
Богу и ближнему (Матѳ. 22, 36—40), частнѣе затѣмъ раскрывается
въ 10 заповѣдяхъ Закона Божія по логическому своему раздѣленію,
а въ евангельскихъ заповѣдяхъ о блаженствѣ—по ступенямъ внут-
ренняго нравственнаго развитія христіанина.
37
Встрѣчаются на практикѣ и другіе случаи, требующіе, какъ
обнаруживалось изъ отвѣтовъ учениковъ, со стороны преподавателя
вниманія и соотвѣтственныхъ разъясненій.
Вотъ, напримѣръ, мѣсто катихизиса о томъ, что слѣдуетъ раз-
умѣть въ молитвѣ Господней подъ именемъ искушенія. Въ отвѣтѣ
на вопросъ объ этомъ сказано, что подъ именемъ искушенія раз-
умѣется «такое стеченіе обстоятельствъ, въ которомъ есть близкая
опасность потерять вѣру, или впасть
въ тяжкій грѣхъ». Какъ,
спрашивается, смотрѣть на такіе случаи стеченія обстоятельствъ,
когда не бываетъ всѣхъ, указанныхъ выше, условій, т. ѳ. когда,
напримѣръ, предстоитъ христіанину опасность не потерять вѣру, а
только поколебаться въ ней или только соблазниться мыслію по
какому-либо предмету вѣры, а также, когда предстоитъ опасность
впасть въ грѣхъ, не относимый къ числу особыхъ, тяжкихъ грѣ-
ховъ, или, наконецъ, когда опасность потерять вѣру или впасть
въ тяжкій грѣхъ, хотя
и будетъ, но не близкая, въ смыслѣ отно-
шеній по времени? Такого рода стеченія обстоятельствъ раз-
умѣются ли подъ именемъ искушеній и долженъ ли христіанинъ
молиться объ охраненіи его отъ нихъ?
И далѣе—въ отвѣтѣ на вопросъ.- «откуда приходятъ таковыя
искушенія»?—говорится: «отъ плоти нашей, отъ міра, или отъ дру-
гихъ людей, и отъ діавола». Но искушенія приходятъ и отъ души
нашей, отъ грѣховнаго строя ея. «Отъ сердца исходятъ помышле-
нія злая» (Матѳ. 15, 19), сказалъ Спаситель.
Или
еще мѣсто. При объясненіи шестой заповѣди блаженства:
«блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ»—чистота сердца,
высшее состояніе нравственнаго совершенства христіанина, за кото-
рую обѣтована и высшая награда—лицезрѣніе Бога, объясняется
чрезъ сопоставленіе съ чистосердечіемъ, или искренностью, прямо-
душіемъ, одною изъ низшихъ добродѣтелей, которая можетъ соче-
таться въ человѣкѣ съ разнообразнымъ нравственнымъ содержа-
ніемъ, иногда даже и совершенно далекимъ отъ чистоты сердца,
разумѣющейся
въ шестой заповѣди блаженства. Связь между этими
добродѣтелями имѣется собственно лишь по созвучію словъ, т. е.
чисто фонетическая, а не по существу ихъ внутренняго содержанія.
Со стороны преподавателя требуется въ подобныхъ случаяхъ
принятіе въ соображеніе всего того, что можетъ повести къ не-
38
ясности пониманія учениками истинъ христіанскаго ученія,—иначе
безъ надлежащихъ разъясненій, какъ это случается, ученики бу-
дутъ только механически повторять заученный текстъ катихизиса.
Вопросо-отвѣтная форма изложенія катихизиса, назначенная
служить къ упрощенію усвоенія катихизическаго ученія, далеко не
всегда исполняетъ такое свое назначеніе. Иногда же она примѣ-
няется даже такъ, что является скорѣе источникомъ недоразумѣній,
чѣмъ средствомъ
дидактическаго облегченія для учащихся въ усвое-
ніи преподаваемаго имъ содержанія. Приходилось встрѣчаться, на-
примѣръ, съ такимъ случаемъ: преподаватель вызывалъ на средину
класса двухъ учениковъ и распоряжался, чтобы одинъ изъ нихъ
предлагалъ по катихизису вопросы, а другой давалъ на это отвѣты.
Дѣлалось это преподавателемъ въ видахъ оживленія класса и под-
нятія самодѣятельности учащихся; но оживленіе и самодѣятельность
въ дѣйствительности получались, какъ и слѣдовало ожидать,
въ
обратномъ направленіи: одни изъ учениковъ приходили въ весе-
лое настроеніе, другіе обижались на то, что имъ предлагалось отвѣ-
чать товарищу-ученику, а въ результатъ получалось нарушеніе
дисциплины въ классѣ, съ разными осложненіями.
Дисциплина, правда, сохраняется и осложненій не бываетъ,
когда вопросы предлагаетъ преподаватель, а ученикъ даетъ ему
отвѣты. Но не все и здѣсь дидактически полезно, такъ какъ дробле-
ніе въ учебникѣ извѣстнаго положенія на части иногда больше
затрудняетъ
усвоеніе его учениками, чѣмъ содѣйствуетъ ему, иногда
же ведетъ къ механичности мыслительной работы ученика. Иногда
вопросы обращаются въ отвѣтъ самимъ ученикомъ и онъ отвѣчаетъ
связною монологическою рѣчью, переходя отъ одного вопроса и
отвѣта къ слѣдующему вопросу и отвѣту, и т. д. Это нерѣдко счи-
тается высшею степенью дидактическихъ успѣховъ въ примѣненіи
вопросо-отвѣтной формы при изученіи катихизиса.
Немаловажно въ отношеніи къ катихизису и то, чтобы тонъ
преподаванія былъ
не сухой—разсудочный, какъ это въ практикѣ
нерѣдко случается, а—проникнутый теплымъ чувствомъ вѣры и
убѣжденія. При требованіи отъ учениковъ книжнаго знанія, иногда
забываютъ объ этомъ, или, по крайней мѣрѣ, не слѣдятъ за этимъ
и не обращаютъ на это необходимаго вниманія въ той степени,
какъ требовало бы этого существо дѣла.
39
Вопросъ о постановкѣ преподаванія катихизиса—сложный и
важный, и въ отношеніи къ нему уже намѣчена подготовительная
работа бывшимъ въ августѣ 1909 года съѣздомъ законоучителей
среднихъ учебныхъ заведеній, пришедшимъ къ заключенію о не-
обходимости пересмотра формы и содержанія катихизиса соотвѣт-
ственно учебнымъ нуждамъ средней школы. По этому вопросу при-
ходилось уже отчасти высказываться и мнѣ (Россія, №№ 1129 и
ИЗО за 28 и 29 іюля 1909
г.). Рѣшенія, какія будутъ приняты
относительно свѣтской средней школы, отразятся, конечно, въ свое
время и на постановкѣ преподаванія этого предмета въ духовной
школѣ. Въ духовной школѣ все же вопросъ этотъ имѣетъ, по суще-
ству дѣла, нѣсколько иную постановку, въ виду того, что за кати-
хизисомъ слѣдуетъ въ семинарскомъ курсѣ подробное преподаваніе
богословскихъ наукъ, чего нѣтъ въ свѣтской школѣ, гдѣ катихи-
зисомъ оканчивается ознакомленіе учащихся съ истинами христіан-
ской
вѣры и нравственности.
Возникающія при преподаваніи катихизиса затрудненія бу-
дутъ, нужно думать, приняты во вниманіе при пересмотрѣ его для
примѣненія его къ учебнымъ нуждамъ, какъ школьно - учебнаго
руководства. Тогда, быть можетъ, благовременно будетъ обратить
вниманіе и на самыя основанія плана, принятаго въ катихизисѣ,
гдѣ все христіанское ученіе дѣлится на три отдѣла—о вѣрѣ, на-
деждѣ и любви, соотвѣтственно тремъ основнымъ христіанскимъ
добродѣтелямъ.
Что добродѣтели
эти полно обнимаютъ всѣ стороны нравствен-
ной жизни христіанина, это, конечно, безспорно. Но другой во-
просъ: удобно ли, въ дидактическихъ цѣляхъ, распланировывать по
такимъ отдѣламъ все христіанское ученіе? Первый отдѣлъ—ученіе
о вѣрѣ—не возбуждаетъ, правда, какихъ-либо затрудненій или не-
доумѣній. Но два другіе отдѣла—о надеждѣ и любви—логически
не такъ опредѣленно отграничиваются, чтобы можно было одно
изъ содержанія христіанскаго нравоученія отнести къ надеждѣ, а
другое—къ
любви.
И дѣйствительно, къ отдѣлу о надеждѣ христіанской отнесены
молитва Господня и заповѣди о блаженствѣ. Но заповѣди о бла-
женствѣ относятся въ то же время и къ любви. «Блажени милости-
віи, блажени миротворцы>: развѣ это не виды проявленія любви
40
къ ближнимъ? «Блажени есте, егда поносятъ вамъ, и ижденутъ,
и рекутъ всякъ золъ глаголъ, на вы лжуще Мене ради»: развѣ
мученическій подвигъ—не высшая степень проявленія любви къ
Богу? И молитва, какъ нравственная обязанность христіанина, не
разумѣется ли и въ первой заповѣди Закона Божія: «Азъ есмь
Господь Богъ твой»? Молитва же Господня, какъ образецъ христіан-
ской молитвы, и имѣетъ значеніе прежде всего такого образка
молитвы.
Въ пространномъ
катихизисѣ обо всемъ этомъ сказано въ вы-
раженіяхъ, заслуживающихъ вниманія: на принятое въ немъ раз-
дѣленіе содержанія христіанскаго ученія указано, какъ на одно
изъ возможныхъ, т. е. допустимые раздѣленій, но не какъ не-
обходимое, т. е. такое, которое, лежа въ самыхъ основахъ христіан-
скаго ученія, инымъ замѣнено быть не можетъ, безъ ущерба для
существа дѣла.
Вотъ это мѣсто. На вопросъ: «какъ представить катихизическое
ученіе благочестія въ правильномъ составѣ?»—дается такой
отвѣтъ,
что для сего € можно принять за основаніе изреченіе апостола
Павла, что все занятіе христіанина въ настоящей жизни должны
составлять сіи три: вѣра, надежда, любовь» (1 Кор. 13, 13). И
дальше, тогда какъ о вѣрѣ опредѣленно сказано, что Церковь вво-
дитъ насъ въ ученіе о вѣрѣ посредствомъ символа вѣры,—относи-
тельно надежды и любви поставлены вопросы условно: «что можно
принять въ руководство для ученія о надеждѣ? гдѣ можно найти
начальное ученіе о любви?» Только въ этой
условной формѣ гово-
рится, что въ руководство для ученія о надеждѣ могутъ быть при-
няты изреченія Господни о блаженствѣ и молитва Господня и что
начальное ученіе о любви можетъ быть найдено въ десяти заповѣ-
дяхъ Закона Божія.
Слѣдовательно, надежда христіанская воспитывается не одною
только молитвою и исполненіемъ заповѣдей о блаженствѣ, а также
и ученіе о любви христіанской не въ однихъ только десяти за-
повѣдяхъ Закона Божія изложено. И дѣйствительно. надежда хри-
стіанская
воспитывается также и вѣрою: «безъ вѣры невозможно
угодити Богу» и вѣрующимъ въ Него Богъ «мздовоздатель бы-
ваетъ» (Евр. 11, 6), вѣра ведетъ «во спасеніе», «глаголетъ бо
Писаніе: всякъ вѣруяй во-нь не постыдится» (Римл. 10, 10, 11);
41
«мы бо духомъ отъ вѣры упованія правды ждемъ» (Гал. 5, 5). Съ
другой стороны, христіанская надежда воспитывается въ вѣру во-
щи хъ исполненіемъ воли Божіей, выраженной въ десяти заповѣдяхъ
Закона Божія, т. е. воспитывается любовію. «Внидетъ въ царствіе
небесное, сказалъ Спаситель, творяй волю Отца Моего, иже есть на
небесѣхъ» (Мате. 7, 21). И когда нѣкто спросилъ Іисуса Христа:
«Учителю благій, что благо сотворю, да имамъ животъ вѣчный?»—
то
Спаситель сказалъ: «аще хощеши внити въ животъ (вѣчный),
соблюди заповѣди», и затѣмъ указалъ заповѣди Закона Божія, дан-
ныя при Синаѣ (Матѳ. 19, 16—19).
Надежда христіанская такимъ образомъ питается и отъ вѣры
и отъ любви. А потому и содержаніе соотвѣтственнаго отдѣла кати-
хизиса самостоятельнаго значенія не имѣетъ, и отдѣльное изложеніе
содержанія его ведетъ къ нѣкоторымъ дидактическимъ неудобствамъ
при объясненіи учащимся христіанскаго ученія, между прочимъ и
къ вышеуказанному
обособленію десяти заповѣдей Закона Божія
отъ евангельскихъ заповѣдей о блаженствѣ.
Дидактическіе недочеты катихизиса, какъ школьно-учебнаго
руководства, многократно вызывавшіе появленіе разнообразныхъ
приспособленій содержанія и изложенія его къ учебнымъ нуждамъ
школы, болѣе или менѣе ощутительно сказываются на познаніяхъ
учениковъ въ Законѣ Божіемъ п требуютъ со стороны преподава-
телей тѣмъ большей внимательности и опытности въ преподаваніи
этого предмета.
2. Съ катихизисомъ
соединяется въ духовномъ училищѣ по
той же каѳедрѣ кромѣ того преподаваніе объясненія богослуженія
и церковнаго устава. Предметъ этотъ, если смотрѣть на него съ
точки зрѣнія общихъ нуждъ средней школы, преподается въ духов-
ныхъ училищахъ достаточно правильно. Но нѣсколько иные выводы
могутъ получаться, если посмотрѣть на него съ точки зрѣнія нуждъ
духовной школы. Въ духовной школѣ выдвигается особое значеніе
знанія учащимися церковнаго устава въ практическомъ смыслѣ,
т. е. съ
достаточнымъ умѣніемъ въ исполненіи учащимися обязан-
ностей чтецовъ и пѣвцовъ при богослуженіи. Съ этой практической
стороны постановка преподаванія церковнаго устава страдаетъ не-
рѣдко болѣе или менѣе значительными недостатками, такъ какъ
учащіеся изучаютъ церковный уставъ больше теоретически.
42
Причина этого въ нѣкоторой мѣрѣ заключается въ самыхъ
преподавателяхъ этого предмета, знающихъ этотъ предметъ обычно
также лишь теоретически. Было бы поэтому полезно организовать
практическое ознакомленіе учащихся съ порядкомъ совершенія бого-
служенія на болѣе правильныхъ и устойчивыхъ началахъ, чѣмъ
это бываетъ въ духовныхъ училищахъ въ настоящее время, когда
все это зависитъ нерѣдко отъ случайныхъ обстоятельствъ и вообще
признается имѣющимъ
относительно второстепенное значеніе. Съ
этой стороны нужно было бы объединить въ одно общее требова-
нія въ отношеніи къ церковному уставу, церковному пѣнію и цер-
ковно-славянскому чтенію, и баллъ по уставу обозначать въ зависи-
мости отъ соотвѣтственныхъ познаній въ соединенныхъ съ нимъ
по существу дѣла указанныхъ предметахъ. Было бы полезно и самое
преподаваніе церковнаго устава, предполагающее практическое знаніе
его преподавателемъ, не соединять непремѣнно съ преподаваніемъ
катихизиса
и допустить возможность, въ случаѣ нужды, другихъ
сочетаній его въ отношеніи къ преподающему лицу.
III.
Съ преподаваніемъ Закона Божія въ духовныхъ училищахъ
находится отчасти къ связи преподаваніе краткой русской исто-
ріи, церковной и гражданской, съ предварительнымъ сообщеніемъ
краткихъ свѣдѣній изъ общей церковной исторіи. Предметъ этотъ,
преподаваемый въ III—IV классахъ училища вслѣдъ за оконча-
ніемъ священной исторіи Новаго Завѣта, предполагаетъ общее озна-
комленіе
учащихся съ важнѣйшими фактами изъ исторіи утвер-
жденія христіанства въ мірѣ, особенно въ періодъ вселенскихъ со-
боровъ, и затѣмъ уже изложеніе важнѣйшихъ свѣдѣній изъ русской
исторіи, одновременно—церковной и гражданской, въ взаимной связи
церковно-общественныхъ событій отечественной исторіи.
Въ программномъ отношеніи въ преподаваніи исторіи, введен-
ной по духовнымъ училищамъ съ 1906 года, пока не установилось
повсюду опредѣленнаго однообразія, какъ потому, что программа по
этому
предмету не имѣетъ окончательно выработанной формы, такъ
и въ виду отсутствія вполнѣ подходящихъ учебныхъ руководствъ.
43
Вслѣдствіе этого предметъ этотъ — то расширяется до объемистыхъ
учебниковъ, или до двухъ раздѣльныхъ учебныхъ курсовъ церков-
ной и гражданской исторіи, то сокращается до краткой отечествен-
ной исторіи въ объемѣ курса народныхъ училищъ. Конечно, эти
учебные недочеты сами собою устранятся съ выясненіемъ опредѣ-
ленно нѣкоторыхъ учебныхъ вопросовъ духовной школы, связанныхъ
съ ея общею реформою.
Болѣе существенное значеніе имѣютъ въ практическомъ
отно-
шеніи другія стороны преподаванія этого предмета, именно харак-
тера методическаго. Онѣ заслуживаютъ быть отмѣченными потому,
что могутъ остаться въ учебной практикѣ и при всякой иной про-
граммной постановкѣ этого предмета.
Такъ, встрѣчается нерѣдко на практикѣ то, что предметъ этотъ
преподается отвлеченно и книжно: объясненія преподавателя часто
составляютъ просто лишь передачу содержанія учебника словами
того же учебника, безъ всякаго конкретизированія разсказа какими--
либо
наглядными данными. Бываетъ даже и такъ: преподаватель
поручаетъ въ классѣ ученику читать по учебной книжкѣ дальше —
къ слѣдующему уроку; ученикъ читаетъ, а преподаватель, держа
предъ собою ту же книжку, время отъ времени вставляетъ тѣ
или другія пояснительныя слова въ это чтеніе. Ни къ картѣ геогра-
фической, и тѣмъ болѣе — исторической, не обращаются, ни къ
какимъ-либо атласамъ, картинамъ, или инымъ нагляднымъ посо-
біямъ. Прочтено двѣ-три страницы: «ну, это вы приготовите къ
слѣдующему
уроку», заключаетъ преподаватель. И готовятъ, иногда
даже усердно, а потомъ за повтореніе въ классѣ текста учебника
получаютъ тѣ или иные баллы. Если такого отвѣчающаго ученика
спросить о связи изучаемыхъ имъ событій, или о географической
обстановкѣ ихъ, — онъ, конечно, отвѣта не дастъ. Не держится въ его
памяти долго и то, что онъ такимъ образомъ изучаетъ: изъ прой-
деннаго курса онъ лишь самое малое можетъ воспроизвести, если
спросить его изъ прежнихъ уроковъ.
Наглядныхъ пособій
для преподаванія исторіи обычно не
имѣется въ духовныхъ училищахъ, въ виду недавняго, къ тому
же, введенія въ нихъ этого предмета. Между тѣмъ, исторію, осо-
бенно въ элементарной формѣ, нельзя съ успѣхомъ проходить безъ
такихъ пособій. Необходима не только историко-географическая карта,
44
но и другія пособія—картины историческихъ событій и бытовыя,
атласы съ портретами государей и историческихъ дѣятелей, снимки
съ историческихъ памятниковъ и т. п. Только оживляемое разно-
стороннею наглядностію, элементарное преподаваніе получитъ въ
сознаніи учащихся надлежащую ясность, которая должна быть на
этой ступени развитія непремѣнно конкретною, въ живыхъ обра-
захъ, и только такое преподаваніе оставитъ затѣмъ въ памяти уча-
щихся прочные
слѣды.
При недостаткѣ въ наглядныхъ пособіяхъ, необходимо, по
крайней мѣрѣ, съ особымъ вниманіемъ относиться къ образованію
у учениковъ отчетливыхъ географически-историческихъ представле-
ній, чтобы не могли имѣть мѣста случаи въ родѣ того, что ученикъ,
отвѣчая о первыхъ русскихъ князьяхъ и упоминая объ озерѣ
Ильмень и Новгородѣ, полагаетъ, что Ильмень и Новгородъ нахо-
дятся на Скандинавскомъ полуостровѣ, или, отвѣчая о покореніи
Кавказа и упоминая при этомъ разныя историческія
мѣстности,
совершенно не представляетъ себѣ, гдѣ все это находится. Не со-
ставитъ труда для знающаго преподавателя также прибѣгать къ
чертежамъ на классной доскѣ или бумагѣ, для изображенія тѣхъ или
иныхъ мѣстностей, плановъ городовъ и проч. И для самихъ учащихся
чертежи, сколь бы плохо они ни были воспроизведены ими, какъ мне-
моническое средство и какъ воспособленіе дѣятельности воображенія,
могли бы имѣть весьма важное значеніе. Употребленное на эти вспо-
могательныя занятія
время нельзя считать потраченнымъ напрасно:
оно сторицею вознаградится въ послѣдующихъ успѣхахъ учащихся.
Въ отношеніи къ постановкѣ объясненій преподавателемъ
уроковъ заслуживаетъ быть отмѣченнымъ, что объясненія эти не-
рѣдко являются лишь воспроизведеніемъ содержанія учебника, иногда
съ тѣми или иными прибавленіями, въ смыслѣ расширенія этого
содержанія разными подробностями. Между тѣмъ наиболѣе суще-
ственное значеніе имѣло бы расчлененіе содержанія данной статьи
учебника,
съ указаніемъ взаимнаго отношенія частей или сторонъ
разсматриваемаго событія или событій. Умъ учащагося на данной
ступени развитія не можетъ еще разбираться въ оцѣнкѣ взаимнаго
отношенія разныхъ моментовъ изучаемаго имъ содержанія: нужно
съ особою тщательностію освѣтить и выяснить ему логическое со-
отношеніе этихъ моментовъ. Притомъ же нерѣдко и въ учебникахъ,
45
при ихъ сжатости, важное и существенное излагается такъ, что
только знающій уже исторію можетъ разобраться въ этомъ и всему
дать свое мѣсто.
Вмѣстѣ съ этимъ важно для учащихся, чтобы всякое новое
знаніе, всякое поступленіе впередъ соединялось въ сознаніи уча-
щихся съ прежними и$ъ знаніями въ одно связное цѣлое и въ
одну прочную ассоціацію. Поэтому конспективное воспроизведеніе
прежде пройденнаго и осмысленіе вновь сообщаемаго въ соединеніи
съ
предыдущими свѣдѣніями учащихся имѣетъ существенное зна-
ченіе для сознательнаго и прочнаго усвоенія учащимися препода-
ваемаго имъ предмета. Въ исторіи все послѣдующее имѣетъ не-
избѣжную связь съ предыдущимъ и обусловливается имъ.
Вообще весьма важнымъ представляется, на этой ступени обу-
ченія, соблюденіе всѣхъ дидактическихъ правилъ при занятіяхъ съ
учащимися. И особенно не слѣдуетъ впадать, какъ это случается,
въ тонъ лекціоннаго преподаванія, чему такъ содѣйствуетъ содержа-
ніе
даннаго предмета, располагающее къ монологической передачѣ
его. Нужно умѣть найти необходимое съ дидактической точки зрѣ-
нія равновѣсіе между монологомъ въ рѣчи преподавателя, съ одной
стороны, и вопросами къ учащимся, съ другой, не впадая и въ
обратную крайность, равно какъ и не подмѣняя отвѣтовъ учени-
ковъ отвѣтами самого же преподавателя на свои вопросы. Учебная
практика показываетъ, что эти само собою понятныя дидакти-
ческія положенія нерѣдко опускаются изъ вида въ постановкѣ
пре-
подаванія, и монотонный вялый монологъ, съ отвлеченнымъ или
общимъ содержаніемъ, нерѣдко является въ формѣ обычнаго для
преподавателя пріема преподаванія исторіи, хотя, конечно, рядомъ
съ этимъ имѣются въ училищахъ и примѣры преподаванія, над-
лежащимъ образомъ согласованнаго съ педагогическими требованіями.
Эпизодическій курсъ отечественной исторіи проходится и въ
епархіальныхъ женскихъ училищахъ—во II классѣ, предшествуя
болѣе полному преподаванію русской исторіи, въ связи
съ всеоб-
щей, въ старшихъ классахъ. Поэтому сказанное выше относительно
преподаванія исторіи въ духовныхъ училищахъ не лишено значенія
и для епархіальныхъ женскихъ училищъ, въ которыхъ, однако, мнѣ
приходилось встрѣчаться и съ вполнѣ правильною постановкою пре-
подаванія этого предмета.
46
IV.
Въ отношеніи къ преподаванію русскаго языка въ духовныхъ
училищахъ обращаетъ на себя вниманіе прежде всего значительно
распространенная особенность, что, по прохожденіи въ младшихъ
классахъ этимологіи русскаго языка, почти совершенно забываютъ
0 ней въ старшихъ классахъ, при переходѣ отъ этимологіи къ син-
таксису. Замѣчается это не въ однихъ только мужскихъ духовныхъ
училищахъ, но и въ женскихъ, гдѣ, при переходѣ въ V классъ отъ
синтаксиса
къ словесности, забываютъ нерѣдко и синтаксисъ русскаго
языка.
Общее дидактическое правило, что, при переходѣ къ новому, не
нужно забывать стараго, имѣетъ особенно важное значеніе въ отно-
шеніи къ изученію языковъ, и особенно элементарныя знанія изъ
языка не должны быть забываемы. Преподаватели дѣлаютъ боль-
шую ошибку, если опускаютъ изъ вида, перейдя съ учениками изъ
1 класса во второй, спрашивать ихъ изъ пройденнаго въ I классѣ,
а перейдя въ III классъ возобновлять въ памяти
учениковъ изучен-
ное въ обоихъ младшихъ классахъ и т. д. Только этимъ путемъ
можно достигнуть, что ученикъ будетъ навсегда, на всю жизнь,
потомъ помнить элементы родного языка,—это пригодится ему и
при изученіи всякаго иностраннаго языка. Иначе всегда можетъ
случиться, что во II классѣ ученики, какъ это и бывало, станутъ
говорить: «быть»—глаголъ дѣйствительнаго залога, «ходить»—тоже
глаголъ дѣйствительнаго залога, «ночной» — прилагательное каче-
ственное, сравнительная степень—«ночнѣе»,
превосходная степень—
«самый ночной». А въ III классѣ ученики, при грамматическомъ
разборѣ, будутъ дѣлать относительно склоненій и спряженій ошибки,
которыхъ не допускаютъ даже ученики I класса училища. Или
въ IV классѣ ученики, какъ случалось, будутъ говорить: «ша-
таться»— глаголъ дѣйствительнаго залога; стоячая вода—«стоячій»
причастіе отъ глагола «стоять>; «туча»—не знаютъ, какая часть
рѣчи; «себя»—личное мѣстоименіе; «начался»—настоящее время,
«зажгу»—тоже настоящее время.
А въ IV классѣ, напримѣръ,
епархіальнаго женскаго училища, заканчивая изученіе синтаксиса,
воспитанница не можетъ проспрягать глаголъ «быть» въ настоящемъ
времени, или хотя бы въ III классѣ, какъ это бывало, воспитанницы,
47
изучая синтаксисъ, не знаютъ, какъ этимологически разобрать встрѣ-
тившееся при синтаксическомъ разборѣ слово «не смыслитъ».
Иногда незнаніе учащимися въ старшихъ классахъ самаго
элементарнаго изъ грамматики замѣчалось на урокахъ даже очень
хорошихъ преподавателей, которые, признавая этотъ фактъ, объяс-
няли его тѣмъ, что напр. «этимологію мы еще не повторяли>.
Здѣсь есть существенно-важное недоразумѣніе, которое тре-
буетъ разъясненія. Было
бы нелегкимъ дѣломъ для учителя по-
ставить преподаваніе такъ, чтобы учащіеся не забывали стараго,—
если бы нужно было для этого постоянно «повторять» старое, удѣ-
ляя на это особую часть урочнаго времени или давая для этого
учащимся для внѣклассныхъ занятій особыя работы изъ пройден-
наго курса. Правда, и это, вообще говоря, возможно и осуществимо
въ опытныхъ рукахъ. Но въ отношеніи къ русскому языку вопросъ
стоитъ проще и достигнуть того, чтобы учащіеся не забывали
стараго,
вполнѣ незатруднительно для каждаго преподавателя училища.
Средствомъ для этого является грамматическія, разборъ, кото-
рый неизбѣжно производится въ классѣ на всѣхъ ступеняхъ изуче-
нія грамматики—отъ первыхъ строкъ этимологіи до послѣднихъ
страницъ синтаксиса. Требуется только при этомъ разборѣ пред-
лагать учащимся не одни лишь вопросы, тѣсно связанные съ про-
ходимыми въ данное время отдѣлами грамматики, но и изъ препо-
даннаго ученикамъ раньше и имъ извѣстнаго. Въ самомъ дѣлѣ,
какая
трудность для преподавателя, изъ разбираемой, напримѣръ,
синтаксически какой-либо фразы изъ статьи, предложить ученику
IV класса сдѣлать этимологическій разборъ той или другой части
ея? Между тѣмъ, эти вопросы, дѣлаемые систематически, воспроизво-
дитъ въ сознаніи учениковъ извѣстное имъ изъ этимологіи и, ассоціи-
руя прежнее съ новымъ грамматическимъ содержаніемъ, закрѣпляютъ
въ памяти ихъ пройденное раньше. Точно такъ же въ III классѣ,
напримѣръ, почему одновременно не касаться
такихъ сторонъ грам-
матическая разбора, которыя прямо относятся собственно къ курсу
I—II классовъ? Все это такъ удобоисполнимо, а между тѣмъ
польза была бы существенная.
Немаловажное значеніе для этого имѣетъ одна технико-ди-
дактическая частность въ преподаваніи русскаго языка. Разборъ
грамматическій вездѣ, конечно, производится и имѣетъ вездѣ двѣ
48
общія формы—этимологическаго и синтаксическаго разбора. Но не
вездѣ онъ ведется одинаково въ смыслѣ техники. Въ этомъ разно-
образіи, совершенно естественномъ и законномъ, имѣется, однако
одна частность, которая должна была бы, думаемъ, быть общепри-
нятою. Это: для этимологическаго разбора долженъ быть установ-
ленъ преподавателемъ для каждой изъ ступеней этого анализа та-
кой или иной опредѣленный порядокъ, въ которомъ ученикъ и дол-
женъ
производить этотъ разборъ безъ особыхъ ему со стороны
наставника вопросовъ и разъясненій, коль скоро ему сказано, что-
бы онъ этимологически разобралъ такія-то слова. Это лучше уста-
навливаетъ у учащихся опредѣленныя ассоціаціи и сберегаетъ до-
рогое урочное время.
Приходилось нерѣдко встрѣчаться съ такими пріемами препо-
даванія. Производится этимологическій разборъ словъ взятой для
этого статьи, но не такъ, чтобы ученикъ это дѣлалъ самъ, а такъ,
что каждый его отвѣтъ предваряется
соотвѣтственнымъ вопросомъ
наставника. Разберите такое-то слово,—говоритъ преподаватель;
ученикъ, отыскавъ въ книгѣ указанное слово, стоитъ и молчитъ въ
ожиданіи дальнѣйшихъ вопросовъ, или лишь повторяетъ названное
слово и ждетъ, что будетъ дальше. Какая часть рѣчи?—говоритъ
наставникъ. Ученикъ отвѣчаетъ, что это—существительное, прилага-
тельное, глаголъ. Какое существительное? Какое прилагательное?
Какого залога глаголъ? Какая форма существительнаго, прилага-
тельнаго, глагола?—слѣдуютъ
затѣмъ одинъ за другимъ вопросы
преподавателя. И ученикъ, отвѣтивъ на каждый изъ предлагаемыхъ
вопросовъ, молчитъ въ ожиданіи слѣдующихъ вопросовъ, по же-
ланію преподавателя. Иногда діалогъ между преподавателемъ и
ученикомъ замедляется еще какими-нибудь вставочными мыслями
и разсужденіями, особенно если ученикъ плохо отвѣчаетъ. Времени
на разборъ самыхъ простыхъ словъ (въ случаяхъ, когда не вновь
что-либо изучается) тратится при этомъ много, а дидактической
пользы все же мало,
потому что ученикъ, если онъ плохо зналъ
что-либо, всего вѣроятнѣе съ тѣмъ же и останется, особенно если
преподаватель былъ говорливъ, а ученикъ умѣлъ во-время смол-
чать и во-время сказать.
Для цѣлей повторительнаго напоминанія этимологіи такая форма
разбора совершенно неудобна уже потому, что она не дорожитъ
49
временемъ. Да и для чего тогда лишніе разговоры преподавателя?
Ученику должно быть уже хорошо извѣстно, какая часть рѣчи—
то или другое слово, какое это будетъ существительное, прилага-
тельное или мѣстоименіе, какъ оно будетъ въ именительномъ па-
дежѣ, въ какомъ падежѣ оно употреблено въ данномъ случаѣ и т. п.
Остается только провѣрить, знаетъ ли онъ это, а если забылъ,—то
напомнить ему и другимъ ученикамъ забытое и предостеречь, чтобы
они
впредь этого не забывали. Порядокъ разбора можетъ быть
различный по существу дѣла; но онъ долженъ быть принятъ пре-
подавателемъ для класса, какъ опредѣленный и неизмѣнный; иначе
мысль ученика постоянно будетъ разсѣеваться и затруднять обра-
зованіе прочныхъ ассоціацій въ его памяти.
Останавливаюсь на этомъ потому, что приходилось наблю-
дать, какъ это важно бываетъ на практикѣ. Разбираютъ, напри-
мѣръ, въ IV классѣ синтаксически такую-то фразу. Требуется, для
провѣрки знаній
ученика, произвести въ той или иной части фразы
этимологическій разборъ. Но это оказывается дѣломъ далеко нелег-
кимъ. Ученикъ IV класса иногда недоумѣваетъ даже при словѣ
«этимологическій разборъ»: ему требуется разъяснить, что онъ раз-
биралъ это мѣсто «по предложеніямъ», а теперь нужно разобрать
его «по частямъ рѣчи». И затѣмъ, при молчаніи ученика, не знаю-
щаго, о чемъ изъ этимологіи ему нужно сказать про названныя
слова, наставнику приходится безъ конца катихизировать: какого
залога
глаголъ, какого наклоненія, какого времени, вида, ч какого
числа, лица? и проч. И если окажется, что ученикъ все это успѣлъ
уже перезабыть, то въ результате получается огромная непроизво-
дительная трата времени.
Схемы разбора этимологическаго и синтаксическаго вообще
должны быть такъ или иначе установлены преподавателемъ для
всякой вообще ступени класснаго преподаванія и вообще должны
быть примѣняемы и въ цѣляхъ экономіи времени, и цѣляхъ уста-
новленія прочныхъ и ясныхъ ассоціацій
мысли у учениковъ. Но
особенно онѣ необходимы въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится про-
изводить въ классѣ повторительный грамматическій разборъ. И
только при условіи примѣненія такихъ схемъ достижимо, что по-
втореніе этимологіи не затруднитъ преподавателя при прохожденіи
синтаксиса, и если угодно—хотя бы даже словесности. Въ грам-
50
матическомъ разборѣ суммируется вся совокупность основныхъ зна-
ній ученика по русской грамматикѣ, и потому производство его и
есть, въ существѣ дѣла, повтореніе грамматики.
Само собою понятно, что кромѣ общихъ формъ грамматиче-
скаго разбора по принятой схемѣ для преподавателя постоянно бу-
детъ имѣться нужда въ какомъ-либо частичномъ этимологическомъ
или синтаксическомъ анализѣ, соотвѣтственно, напримѣръ, препо-
даваемымъ имъ въ данное время
отдѣламъ. Но не эти случаи имѣ-
ются здѣсь въ виду и схема разбора разумѣется, не какъ уни-
форма, годная и нужная всегда при изученіи грамматики: имѣются
въ виду лишь случаи повторительнаго спрашиванія пройденнаго,
послѣ изученія и анализа преподаннаго содержанія, и независимо
отъ возможныхъ всегда случаевъ надобности, хотя бы и повтори-
тельно, особо спросить ученика про ту или другую отдѣльную сто-
рону грамматическаго анализа.
Встрѣчаются и другіе недочеты въ преподаваніи
русской грам-
матики.
Такъ, преподаватели иногда больше, чѣмъ нужно, занимаются
фонетическимъ анализомъ словъ и корнесловіемъ. Конечно, нельзя
признать правильнымъ и механическое заучиваніе грамматическихъ
формъ, но требуется со стороны преподавателя умѣть находить сре-
дину между этими крайностями. Въ родномъ языкѣ многое доста-
точно отчетливо понимается безъ особаго фонетическаго анализа, и
этотъ естественный смыслъ учащагося нѣтъ надобности затемнять
фонетическимъ анализомъ.
Возьмите склоненія, спряженія и другія
формы: развѣ, напримѣръ, именительный, родительный, дательный
падежи и т. д. не могутъ быть отыскиваемы по естественному смыслу
и инстинкту учащагося? И для чего было бы, напримѣръ, склонять
русскія слова по надежнымъ окончаніямъ, какъ мы дѣлаемъ это съ
невѣдомымъ намъ иностраннымъ языкомъ? Конечно, фонетически
расчленить слово ученикъ долженъ умѣть. Но едва ли въ данномъ,
напримѣръ, случаѣ такое расчлененіе должно непремѣнно предпо-
сылать
самому склоненіи). Даже особая точность въ различеніи скло-
неній при изученіи родного языка не имѣетъ большого значенія.
Можно правильно склонять русскія слова, не зная, къ какому скло-
неніи) грамматики причислили это слово, хотя бы и безусловно вѣрно
было то, что латинское слово (напримѣръ—mundus, mnnus, fructus)
51
нельзя просклонять правильно, не зная, къ какому склоненію оно при-
надлежитъ—ко второму, третьему или четвертому. Можно также по
смыслу и инстинкту отыскивать глагольныя формы,—не такъ, какъ
поступаемъ мы при изученіи иностраннаго языка, гдѣ фонетическій
анализъ, по крайней мѣрѣ—при теоретическомъ изученіи языка,
долженъ предшествовать усвоенію грамматическихъ формъ. Или
нѣтъ, напримѣръ, практической надобности родъ именъ существи-
тельныхъ
опредѣлять по ихъ окончаніямъ и принадлежности къ
тому или другому склоненіи), какъ и букву ѣ непремѣнно соеди-
нять съ извѣстнымъ падежомъ такого-то склоненіи, при разнообра-
зіи къ тому же и сужденій грамматикъ по этому предмету, и за-
ставлять ученика не иначе отвѣчать на вопросы по этому предмету,
какъ по предварительномъ припоминаній, какого склоненіи данное
слово. Вотъ, для примѣра, нѣкоторые случаи изъ школьной прак-
тики. «Въ деревнѣ»—на концѣ ѣ. Почему? Потому, что это слово
второго
склоненія, а мы знаемъ, что во второмъ склоненіи въ пред-
ложимъ падежѣ на концѣ пишется буква ѣ». «Въ радости и пе-
чали—на концѣ и, а не и>, потому что слова «радость» и' «печаль»
третьяго склоненія; а въ третьемъ склоненіи въ предложномъ па-
дежѣ на концѣ пишется и». Ссылка, притомъ въ I классѣ, на
склоненія не запутываетъ ли здѣсь для сознанія малолѣтняго уча-
щаяся только дѣло? Да и зачѣмъ искать букву ѣ въ концѣ словъ
«въ радости, въ печали», когда по слуху здѣсь ясно слышится
звукъ
w? Или: «дынь»—на концѣ мягкій знакъ. Почему? Опять на-
чинаются ссылки на склоненія, хотя для нуждъ орѳографіи вопросъ
для учащаяся рѣшается ясностію слухового воспріятія.
Въ этомъ отношенія неизлишне помнить учебные пріемы ста-
раго времени, когда учили русской грамматикъ даже безъ всякая
фонетическая анализа. И въ результатѣ, для жизни и практики,
получалось едва ли худшее того, что теперь даетъ школа: писали
на родномъ языкѣ не хуже, чѣмъ теперь. Если, съ развитіемъ науч-
наго
знанія, не всегда цѣлесообразно возвращаться къ прошлому
въ постановкѣ школьнаго преподаванія, то вспоминать опыты прош-
лаго вообще неизлишне. И въ данномъ случаѣ опытъ прошлой
учебной практики, когда родной языкъ изучался обычно безъ вся-
кая фонетическаго анализа, но успѣхи все же получались доста-
точные, предостерегаетъ противъ излишняго увлеченія фонетикой и
52
пренебреженія къ естественному смыслу учащихся въ пониманіи
родного языка.
Въ отношеніи къ изученію грамматики замѣчается нерѣдко
еще то неудобство, что составители грамматикъ разно говорятъ объ
одномъ и томъ же, и одни изъ нихъ различаютъ такія-то склоненія,
у другихъ они—иныя, у одного—такіе-то залоги глагола, у дру-
гого—иные, одинъ трактуетъ о предложеніяхъ такъ, другой—иначе.
Это иногда совершенно опутываетъ учащихся, особенно если и самъ
преподаватель
склоненъ бываетъ разно толковать ту или иную эти-
мологическую форму языка, а также то или иное синтаксическое
сочетаніе. А иногда преподаватель къ такому обильному граммати-
ческому разнорѣчію присоединяетъ еще свои добавки далеко не
общепризнаннаго содержанія, какъ, напримѣръ, дѣлитъ всѣ глаголы
только на два залога—дѣйствительный и страдательный, обобщая
въ одинъ залогъ и такіе глаголы, какъ, напримѣръ, дѣлать, си-
дѣть, мыться.
Случалось встрѣчать, что грамматическія формы
русскаго
языка изучаютъ одновременно съ церковно-славянскими, чрезъ взаим-
ное ихъ сопоставленіе. Результаты отъ этого, даже у хорошаго пре-
подавателя, получались далеко не тѣ, какіе были бы у него, если
бы онъ не примѣнялъ такого пріема въ своемъ преподаваніи.
Ученики отчетливо не усвоивали ни тѣхъ, ни другихъ формъ и
параллелизмъ этотъ, ясно укладываясь въ сознаніи преподавателя,
учениковъ больше спутывалъ, чѣмъ облегчалъ. Поэтому цѣлесообраз-
нѣе сначала достигать отчетливаго
усвоенія учащимися русскихъ
грамматическихъ формъ и только тогда уже переходить къ фор-
мамъ церковно-славянскаго языка.
Грамматическій, какъ этимологическій, такъ и синтаксическій,
разборъ, въ которомъ концентрируется все содержаніе преподавае-
маго учебнаго матеріала, производится обычно въ связи съ изуче-
ніемъ въ классѣ литературныхъ образцовъ. Въ этомъ отношеніи не-
рѣдко замѣчается наклонность преподавателей къ производству та-
кого разбора по стихотвореніямъ, изученіе которыхъ
обычно идетъ
параллельно изученію грамматики. Между тѣмъ, стихотворная рѣчь
часто бываетъ мало удобна даже для этимологическаго разбора по свое-
образія) нѣкоторыхъ формъ, къ пониманію которыхъ ученики еще
недостаточно поднялись. Въ отношеніи же къ синтаксическому раз-
53
бору здѣсь тѣмъ болѣе встрѣчается затрудненій, такъ какъ строй
рѣчи, напримѣръ—въ басняхъ, бываетъ далеко не столь простъ
для разбора его учащимися, чтобы принимать стихотворную рѣчь за
вполнѣ удобную для класснаго грамматико-синтаксическаго анализа.
Въ отношеніи къ стихотвореніямъ слѣдуетъ также отмѣтить,
что въ подборѣ ихъ по содержанію, было бы необходимо обра-
щать вниманіе на то, чтобы ученики знали также стихотворенія
патріотическаго
и религіознаго содержанія. Какъ-то странно встрѣ-
чаться съ фактами, когда оказывается, что на предложеніе прочесть
какое-либо стихотвореніе патріотическаго содержанія весь классъ
отвѣчалъ незнаніемъ чего-либо подходящаго къ этому, такъ какъ
не учили подобныхъ стихотвореній. И еще болѣе странно, когда
среди изученныхъ стихотвореній не оказывается ничего съ рели-
гіознымъ содержаніемъ. Частности эти важны настолько, что тре-
буютъ въ отношеніи къ себѣ надлежащаго вниманія.
Было
бы также необходимо со стороны наставниковъ рус-
скаго языка наблюдать за тѣмъ, чтобы ученики не забывали вы-
учиваемыхъ ими литературныхъ образцовъ. Нерѣдко бываетъ такъ,
что даже съ переходомъ въ слѣдующій классъ ученикамъ пре-
доставляется забыть изученные ими за предыдущій годъ литера-
турные образцы, такъ какъ въ слѣдующемъ классѣ, предполагается,
будетъ своя работа: будутъ учить новыя басни, стихотворенія,
новые литературные отрывки. Въ старшемъ же IV классѣ обра-
щаться
къ изученному матеріалу I — II классовъ считается обычно
излишнимъ. И нигдѣ, кажется, не бываетъ, чтобы изъ духовнаго
училища въ семинарію сообщали объ изученныхъ всѣмъ классомъ,
въ теченіе училищнаго курса, литературныхъ образцахъ, или, на-
примѣръ, изъ семинаріи освѣдомились касательно этого въ училище,
чтобы установить преемственность въ данномъ отношеніи между
училищемъ и семинаріею: вѣдь одна и та же голова учится, хотя
и въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
Невыразительность
чтенія—недостатокъ весьма обычный въ
духовныхъ училищахъ. А между тѣмъ, если гдѣ, повидимому, такъ
именно въ духовной школѣ необходимо было бы пріучать воспи-
танниковъ къ выразительности чтенія, такъ какъ это имѣетъ непо-
средственно-близкую связь съ правильной постановкой церковнаго
проповѣдничества. Монотонная, однообразная, скучная манера чтенія
54
широко распространена среди учащихся и искорененіе этого недо-
статка заслуживаетъ серьезнаго вниманія.
Оживленіе требуется внести въ изучаемые учащимися лите-
ратурные образцы и вообще читаемыя и разбираемыя въ классѣ
статьи и съ другой стороны—въ отношеніи къ производимому въ
классѣ анализу ихъ содержанія. Обычно анализъ этотъ, имѣющій
въ низшихъ классахъ форму объяснительнаго чтенія, носитъ хара-
ктеръ логическаго анализа, а иногда и прямо
лишь вербальные
разъясненій отвлеченнаго и общаго содержанія. Ученики, и безъ
того богатые словами и отвлеченно-обобщенными представленіями
и понятіями, пополняютъ такимъ образомъ чрезъ это отвлеченный
запасъ свой еще болѣе. Между тѣмъ нужно бы въ такія объясненія
вносить больше того, чего обычно мало у учащихся—реальныхъ
данныхъ, лежащихъ въ основаніи встрѣчающихся обобщеній. Ко-
нечно, вести объясненія такимъ образомъ значительно труднѣе для
преподавателя; но эта сторона дѣла
стоитъ того, чтобы работать
надъ нею и правильно поставить ее въ школѣ.
Иногда рабочая энергія учащихся обращается туда, гдѣ можно
было бы, безъ ущерба для успѣха занятій, сдѣлать въ этомъ отно-
шеніи нѣкоторую экономію. Такъ, мнѣ приходилось встрѣчаться съ
выдачею ученикамъ записокъ. Это не были классныя замѣтки уче-
никовъ въ поясненіе и пополненіе какихъ-либо грамматическихъ
правилъ,—это были именно записки взамѣнъ грамматики. Не со-
отвѣтствуетъ требованіе такой работы отъ
учениковъ ни возрасту
ихъ и развитію, ни существу самого дѣла, такъ какъ грамматикъ
слишкомъ много и подходящую учебную книжку преподаватель всегда
можетъ найти. Если же что-нибудь въ грамматикѣ не подходитъ
подъ индивидуальныя точки зрѣнія наставника, то неизлишне имѣть
въ виду, что чѣмъ меньше вносится въ грамматическіе вопросы и
правила индивидуальныхъ, личныхъ взглядовъ, тѣмъ лучше для
дѣла. Здѣсь можно даже не бояться, что ученики научились гра-
мотно писать по какому-нибудь
старинному шаблону,—лишь бы
только они писали грамотно, а какъ научились—этотъ вопросъ
имѣетъ весьма относительное значеніе. Было бы для учебной прак-
тики значительно лучше, если бы въ учебныя школьный книжки
вносилось только общепринятое и общепризнанное и возможно меньше
сказывались на нихъ послѣдствія шаткихъ лингвистическихъ изыска-
55
ній. Русскій языкъ—живой языкъ, и неудивительно, что въ немъ
найдется немало простора для субъективныхъ толкованій, взглядовъ
и мнѣній. Нужно ли только все это вносить въ школу? Не слѣдуетъ
ли предоставить это уже спеціальному изученію языка?
Высказываясь за учебную книжку, я все же не имѣю въ
виду поддерживать злоупотребленіе ею—книжное какое-нибудь за-
учиваніе правилъ и формъ. Отношеніе къ учебной книжкѣ должно
быть у ученика, конечно, сознательное,
и для наставника предстоитъ
задача не только осмысливать и разъяснять грамматическія правила,
но и поощрять памятныя замѣтки учениковъ по русскому языку
на основаніи его разъясненій. Все это однакоже не то, что выда-
вать имъ записки вмѣсто учебной книжки.
Слѣдуетъ конечно, сказать, что, при отмѣченныхъ выше част-
ныхъ недочетахъ преподаванія русскаго языка, еще болѣе имѣется
хорошихъ сторонъ въ почтенной дѣятельности преподавателей этого
предмета. И мнѣ приходилось, въ частности,
видѣть веденіе уроковъ
съ соблюденіемъ всѣхъ дидактическихъ правилъ. Приходилось ви-
дѣть, напримѣръ, какъ преподаватель спокойно и методически-
послѣдовательно выводилъ извѣстное грамматическое правило изъ
удачно подобранныхъ примѣровъ, пользовался при этомъ также
катихизаціей, вызывая на самодѣятельную работу мысли по воз-
можности всѣхъ учениковъ, требовалъ усвоенія сказаннаго не только
по содержанію, по мысли, но и по изложенію въ соотвѣтственныхъ
формахъ слова и считалъ свою
задачу оконченною только тогда, когда
въ классѣ по возможности всѣми учениками давались по объясненному
предмету правильные отвѣты.
Въ дѣйствительной жизни нерѣдко бываетъ, что тотъ или
иной дидактическій недостатокъ соединяется съ разнообразными ди-
дактическими достоинствами и покрывается ими. Но бываетъ и
наоборотъ, одинъ недостатокъ портитъ все дѣло и лишаетъ даже
хорошее въ другихъ отношеніяхъ преподаваніе его успѣшныхъ ре-
зультатовъ. Такія послѣдствія получаются, напримѣръ,
въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда преподаватель любитъ самъ говорить за учениковъ.
Одного этого недостатка бываетъ иногда довольно, чтобы удовлетво-
рительное въ другихъ отношеніяхъ преподаваніе свести къ неудо-
влетворительнымъ успѣхамъ учащихся, которые изъ-за этого не
только не даютъ себѣ труда вдумываться въ содержаніе препода-
56
ваемаго, но и не прі у чаются доводить работу своей мысли до конца,
до подысканія соотвѣтственнаго ей слова. Въ головѣ у нихъ
остаются обычно только какіе-нибудь обрывки мыслей, которые по-
томъ скоро и совершенно забываются. Для полученія же удовлетвори-
тельнаго балла, при привычкѣ преподавателя говорить за учени-
ковъ, и такіе обрывки мыслей часто бываютъ достаточны. Въ резуль-
татъ такого преподаванія неизбѣжно получается незнаніе учениками
преподаваемаго
ими предмета.
V.
Наученіе правильному изложенію мыслей письменно составляетъ
одну изъ важнѣйшихъ задачъ преподаванія русскаго языка, и по-
тому письменныя работы учащихся, хотя и находятся въ связи
съ другими учебными предметами въ школѣ, но въ наиболѣе близ-
комъ отношеніи стоятъ съ русскимъ языкомъ и въ его преподава-
ніи имѣютъ особенно важное значеніе.
Письменныя работы бываютъ, какъ извѣстно, двоякаго рода:
классныя и домашнія. Классныя работы настолько разнообразны и
находятся
въ столь близкой связи съ методикою каждаго предмета,
что касаться ихъ въ настоящихъ общихъ замѣчаніяхъ по учебному
дѣлу въ духовныхъ училищахъ было бы неудобно. Представляемыя
здѣсь замѣчанія будутъ относиться только къ внѣкласснымъ пись-
меннымъ работамъ учащихся, исполняемымъ во внѣурочное время.
Останавливаетъ на себѣ вниманіе прежде всего вопросъ о по-
рядкѣ назначенія темъ для письменныхъ работъ.
Въ этомъ отношеніи замѣчается значительное разнообразіе по
училищамъ. Примѣняется
едва ли не въ большинствѣ случаевъ
такой порядокъ, что темы для письменныхъ работъ намѣчаются
вмѣстѣ съ расписаніемъ ихъ при началѣ учебнаго полугодія: уста-
навливается такимъ образомъ одновременно, не только по какимъ
предметамъ и когда писать сочиненія, но и на какія темы. Иногда
расписаніе вырабатывается сразу на весь учебный годъ, причемъ
намѣчаются и темы сочиненій. А до 1906 года, когда духовныя
училища находились въ значительной зависимости въ учебномъ
отношеніи отъ правленій
духовныхъ семинарій, случалось даже,
что правленіе семинаріи предлагало училищамъ своего района со-
57
ставлять расписаніе сочиненій и намѣчать темы для нихъ съ та-
кимъ расчетомъ, чтобы то и другое могло быть заблаговременно
разсмотрѣно въ правленіи семинаріи до начала учебнаго года: здѣсь
устанавливалось уже, что темы для сочиненій учениковъ выраба-
тываются не только за годъ впередъ, но даже еще при заключеніи
предыдущаго учебнаго года, когда только, предъ наступленіемъ ва-
кацій, и возможно было бы такое заблаговременное корпоративное
разсмотрѣніе
вопроса о письменныхъ работахъ на слѣдующій учеб-
ный годъ.
Заблаговременное составленіе расписаній домашнихъ письмен-
ныхъ работъ и обсужденіе темъ для нихъ имѣетъ, конечно, въ
пользу себя нѣкоторыя основанія, такъ какъ предполагаетъ внима-
тельное и предусмотрительное разсмотрѣніе даннаго вопроса. Но
съ тѣмъ вмѣстѣ оно имѣетъ и свои неудобства: письменныя работы
трудно было бы поставить въ тѣсную связь съ прохожденіемъ са-
мыхъ предметовъ, такъ какъ нелегко было бы предусмотрѣть,
ка-
кой отдѣлъ изъ учебнаго предмета будетъ проходиться въ данное
время, особенно если приходится предусматривать это за годъ впе-
редъ. Темы пришлось бы, при подобныхъ обстоятельствахъ, изби-
рать такія, которыя имѣли бы общій характеръ и не связывались
бы близко съ содержаніемъ преподаваемаго. И особенно трудно за-
благовременно подбирать темы для такого учебнаго заведенія, гдѣ
преподаваніе имѣетъ характеръ элементарнаго прохожденія пред-
метовъ, каковы духовныя училища. Въ
духовныхъ училищахъ трудно
было бы подбирать темы для домашнихъ письменныхъ работъ да-
же на учебное полугодіе, не только на весь годъ, хотя, напримѣръ,
въ семинаріяхъ назначеніе темъ по полугодіямъ и не встрѣтитъ
особыхъ какихъ-либо затрудненій.
Въ нѣкоторыхъ же училищахъ, напротивъ, назначеніе темъ
для сочиненій зависитъ отъ усмотрѣнія каждый разъ преподава-
теля, иногда съ предварительнаго согласія смотрителя училища,
а иногда и безъ соблюденія этого условія. Здѣсь, конечно,
больше
можетъ быть примѣнительности въ назначеніи письменныхъ работъ
къ данному учебному моменту, и въ этомъ — выгоды такого по-
рядка. Но возможны зато и разныя неудобства, не отъ недо-
статка только внимательности у преподавателя, а еще болѣе—отъ
недостатка согласованности въ дѣйствіяхъ преподавателей, изъ ко-
58
торыхъ одинъ будетъ руководиться такими соображеніями, другой—
другими, забывая, что имѣетъ дѣло съ одною учащеюся головою, а
не съ разными.
Согласованность въ дѣйствіяхъ преподавателей въ отношеніи
къ назначенію письменныхъ работъ учащимся, къ требованіямъ
отъ нихъ и оцѣнкѣ ихъ имѣетъ весьма важное значеніе для успѣш-
ности въ этихъ работахъ, а осуществима она только при условіи
совмѣстнаго корпоративнаго обсужденія этихъ вопросовъ. Имѣетъ
при
этомъ немалую долю значенія вопросъ о томъ, когда и какъ
удобнѣе это сдѣлать.
Небезосновательна точка зрѣнія, что обсуждать эти вопросы
нужно въ предварительномъ порядкѣ—до выполненія плана пись-
менныхъ работъ на данный учебный періодъ; но небезосновательны
и возраженія противъ этого. Нужно поэтому раздѣлить дидактиче-
скія стороны этого дѣла, и то, что требуетъ предварительнаго обсу-
жденія, разсматривать на корпоративныхъ собраніяхъ, вырабаты-
вающихъ планъ предстоящихъ письменныхъ
работъ учениковъ,—
если не темы, то—общія условія, опредѣляющія эти темы. Что же
касается того, что возможно для обсужденія post factum,—подвер-
гать это такому обсужденію при заключеніи даннаго учебнаго пе-
ріода, при чемъ эти заключительныя обсужденія явятся критиче-
скою провѣркою для предварительно выработанныхъ соображеній и
основаніемъ для предположительныхъ сужденій въ отношеніи къ
слѣдующему учебному періоду. Изъ этихъ педагогическихъ элемен-
товъ будетъ постепенно вырабатываться
общій согласованный
опытъ, а равно будутъ приниматься въ соображеніе и всѣ част-
ныя, нерѣдко непредвидимыя заблаговременно, условія выполне-
нія учебнаго дѣла съ даннымъ составомъ учащихся.
По учебному заведенію принято входить въ обсужденіе на
педагогическихъ собраніяхъ результатовъ выполненія письменныхъ
работъ учащимися обычно только въ балловомъ отношеніи: кто и
по какимъ сочиненіямъ получилъ, напримѣръ, неудовлетворитель-
ные баллы. Но еще важнѣе было бы входить въ разсмотрѣніе
этихъ
вопросовъ по существу дѣла, и не только тогда, когда плохо
написаны сочиненія, но и тогда, когда они написаны хорошо.
Нужно дѣлать это всегда, чтобы регулировать общія условія веде-
нія письменныхъ работъ въ учебномъ заведеніи. И чѣмъ глубже,
59
шире и фактичнѣе будетъ эта работа, тѣмъ лучшіе результаты по-
лучатся въ отношеніи къ качествамъ письменныхъ работъ учени-
ковъ. Формальныя справки изъ распоряженій и указаній о по-
рядкѣ назначенія и оцѣнки письменныхъ работъ изъ циркуляровъ
Учебнаго Комитета, какъ бы они обильны ни были, не гаранти-
руютъ успѣха дѣла. Справки эти, даже самыя тщательныя, какъ
случалось встрѣчаться въ дѣйствительности, иногда могутъ соеди-
няться съ совершеннымъ
невыполненіемъ составленнаго расписанія
письменныхъ работъ учащихся.
Въ корпоративныхъ собраніяхъ должны бы подлежать обсу-
жденію всѣ вопросы, связанные съ назначеніемъ письменныхъ
работъ, въ томъ числѣ и относительно количества ихъ по клас-
самъ, которое на практикѣ бываетъ значительно неодинаковое, на-
примѣръ—отъ 8 до 18 работъ въ старшихъ классахъ. Разнорѣчіе
это, отчасти естественное, не всегда зависитъ отъ взвѣшенныхъ на
мѣстѣ соображеній, а иногда и отъ того, что вопросъ
этотъ не былъ
подвергаемъ внимательному обсужденію. Количество работъ въ зна-
чительной степени стоитъ въ связи съ качествомъ ихъ, такъ* какъ пред-
полагаются продуманный самостоятельныя работы учащихся. Для ра-
ботъ же, разсчитываемыхъ на закрѣпленіе въ памяти учащихся
извѣстнаго правила, имѣются другія условія въ предѣлахъ уроч-
наго времени: соотвѣтственная работа дается для выполненія или
въ классѣ, или на дому—съ подготовкой до слѣдующаго урока.
По какимъ предметамъ давать
письменныя работы? Въ нѣко-
торыхъ училищахъ домашнія письменныя работы даются учащимся
только по русскому языку. Въ другихъ же училищахъ, притомъ въ
большинствѣ, письменныя работы даются и по другимъ предме-
тамъ: обычно—но св. исторіи, катихизису. географіи и исторіи, а
иногда—также по церковному уставу и ариѳметикѣ.
Первая практика основывается на томъ соображеніи, что именно
къ русскому языку имѣютъ прямое отношеніе задачи, съ коими
даются письменныя работы—научить воспитанниковъ
правильному,
въ орѳографическомъ, стилистическомъ и логическомъ отношеніяхъ,
изложенію мыслей. Имѣетъ также значеніе при этомъ и вопросъ о
внесеніи большаго единства и систематичности въ назначеніе и
исправленіе письменныхъ работъ, которыя даются и исправляются
однимъ-двумя преподавателями.
60
Практика же второго рода исходитъ изъ соображенія, что при
расширеніи круга предметовъ, по которымъ даются письменныя
работы, увеличивается возможность разнообразія и интереса въ
отношеніи къ содержанію письменныхъ работъ; съ другой стороны
равномѣрнѣе дѣлится между преподавателями значительный, но
обычно—или безмездный или оплачиваемый незначительнымъ воз-
награжденіемъ трудъ по чтенію и исправленію письменныхъ работъ.
Возможно, что второе
соображеніе въ обычномъ теченіи жизни по-
лучаетъ большее вліяніе на разрѣшеніе вопроса, чѣмъ первое, ко-
торое также до извѣстной степени не лишено бываетъ значенія.
Приходилось встрѣчаться въ одномъ изъ училищъ, правда—
въ женскомъ, и съ такою практикою, что сочиненія даются по раз-
нымъ предметамъ, но прочитываются и исправляются преподавате-
лемъ русскаго языка и словесности, которому передается и все по-
ложенное за этотъ трудъ скромное вознагражденіе.
Здѣсь, такимъ образомъ,
мы видимъ попытку къ устраненію
вытекающихъ изъ чтенія сочиненій разными лицами педагогиче-
скихъ неудобствъ. Но было бы существеннымъ противодѣйствіемъ
этимъ неудобствамъ и то, если бы преподавательскій персоналъ
въ общихъ собраніяхъ входилъ въ подробное обсужденіе всѣхъ част-
ностей не только по назначенію, но также—по выполненію, разсмо-
трѣнію и оцѣнкѣ письменныхъ работъ учениковъ. Конечно, это—
трудъ довольно сложный и нелегкій, но—плодотворный.
Однако при расширеніи круга
предметовъ, по которымъ да-
ются письменныя работы, учебная практика допускаетъ видимыя
крайности, съ явнымъ ущербомъ для интересовъ учебнаго дѣла.
Письменныя работы даются ученикамъ иногда даже и по ариѳме-
тикѣ, по которой, при маломъ развитіи учащихся и по самому
существу дѣла, возможнымъ представлялся только одинъ видъ такихъ
работъ—рѣшенія ариѳметическихъ задачъ не въ числовыхъ только
формулахъ, но и съ объясненіями къ нимъ. Такъ темы по ариѳме-
тикѣ дѣйствительно и озаглавливаются:
«Рѣшеніе задачи № такой-то
по задачнику такому-то». Такая работа имѣетъ несомнѣнное значе-
ніе для учебныхъ интересовъ преподаванія ариѳметики; но она
слишкомъ мало касается тѣхъ литературныхъ задачъ, съ коими
даются письменныя работы ученикамъ, потому что и ограниченный
кругъ мыслей, и однообразный, въ значительной степени техническій.
61
способъ выраженія ихъ не даютъ простора для мыслительной ра-
боты ученика въ соотвѣтственныхъ литературныхъ оборотахъ. Двѣ-
три задачи, разсмотрѣнныя и написанныя ученикомъ, исчерпы-
ваютъ весь запасъ литературныхъ сторонъ такихъ работъ.
Мало пригоденъ для письменныхъ работъ и другой изъ ука-
занныхъ предметовъ—церковный уставъ. Темы по нему давались,
напримѣръ, такія: порядокъ вседневной, субботней и воскресной полу-
нощницы; порядокъ вечерни;
порядокъ исполненія канона въ поне-
дѣльникъ первой недѣли великаго поста и т. п. Письменныя ра-
боты на подобныя темы неизбѣжно будутъ столь однообразны по
литературнымъ оборотамъ и бѣдны дидактическими элементами,
что вполнѣ могутъ быть сравниваемы съ дидактическими качествами
письменныхъ работъ по рѣшенію ариѳметическихъ задачъ.
Такимъ образомъ, кромѣ русскаго языка, возможнымъ пред-
ставляется назначать письменныя работы въ духовныхъ училищахъ—
по исторіи священной, церковной
и гражданской, катихизису и гео-
графіи (съ природовѣдѣніемъ). Но на первомъ мѣстѣ, конечно, бу-
детъ стоять русскій языкъ, письменныя работы по которому легко
могутъ заключать въ себѣ тѣ или иныя части изъ содержанія ка-
ждаго изъ поименованныхъ предметовъ. При элементарности вопро-
совъ, по которымъ въ каждомъ предметѣ могутъ даваться учени-
камъ темы для работъ, преподаватель русскаго языка могъ бы
замѣнить всѣхъ преподавателей, давая темы въ послѣдовательномъ
соотвѣтствіи
ставимымъ имъ для себя дидактическимъ задачамъ и
пользуясь для нихъ всѣми училищными предметами, конечно,
также въ соотвѣтствіи съ проходимыми въ данное время курсами.
Правда, это была бы довольно трудная для него работа; но съ пе-
дагогической стороны, въ случаѣ выполнененія, она была бы едва
ли не наиболѣе полезною. При условіи общаго единомысленнаго
дѣйствованія, педагогическія выгоды могутъ быть въ достаточной
мѣрѣ сохранены, впрочемъ, и въ томъ случаѣ, когда къ работамъ
по
русскому языку будутъ присоединяться, напримѣръ—со II класса,
также письменныя работы и по другимъ предметамъ, но въ такой
все же мѣрѣ, чтобы большая часть ихъ падала на русскій языкъ въ
каждомъ классѣ.
Въ выборѣ пьемъ для сочиненій учениковъ допускаются иногда
тѣ или иныя неправильности. Такъ, напримѣръ, по географіи при-
62
ходилось встрѣчаться съ подборомъ темъ преимущественно по во-
просамъ, имѣющимъ отношеніе къ иностраннымъ государствамъ,
пли къ русскимъ инородцамъ. Напримѣръ, въ одномъ училищѣ да-
вались такія темы: характеръ и дѣятельность Казанскихъ татаръ;
наружность, характеръ, образъ жизни и занятія калмыковъ; при-
рода и естественныя богатства Венгріи; индусы; естественныя богат-
ства южной Африки. Въ другомъ училищѣ: торговое значеніе Лейп-
цига; описаніе
священнаго индійскаго города Бенареса. Въ томъ
же училищѣ на тему о природѣ и промышленности Сербіи ученики
писали два года подъ-рядъ, хотя объ этомъ едва ли слѣдовало да-
вать письменныя работы и одинъ разъ. О Финляндіи и Скандинав-
амъ полуостровѣ ученики писали почему-то ежегодно, изучая ихъ
то въ одномъ, то въ другомъ отношеніяхъ. И въ иномъ еще учи-
лищѣ ученики пишутъ о той же Финляндіи на такую тему: «Фин-
ляндія,—природа страны, населеніе, его характеръ, религія, бытъ,
нравы,
обычаи, главныя занятія, замѣчательные города». Иногда
темы даются не только не подходящаго содержанія, но по 20—30
темъ на классъ, т. е. въ количествѣ не только излишнемъ, но даже
небезвредномъ, напрасно развлекающемъ мысль учащихся и воз-
буждающемъ у нихъ раздумье и колебанія, на какую тему писать
сочиненіе. По содержанію же темы были, напримѣръ, слѣдующія:
остяки; киргизы; тунгусы; мордва; чуваши; осетины; ламы; флора
Австріи; животныя Азіи; провинція Франціи Шампань; Весть-Индія;
Сіамъ;
Бразилія; Монголія; Абиссинія; Патагонія; Тибетъ; Сандви-
чевы острова; островъ Мадагаскаръ; островъ Гренландія; Алжиръ;
Тунисъ и т. п. Всѣ эти обильные вопросы едва ли подходятъ для
письменныхъ работъ учащихся какъ по цѣнности, такъ и по каче-
ству своего содержанія, которое должно быть сообразовано съ ди-
дактическими задачами.
Темы подобнаго рода встрѣчаются и въ женскихъ училищахъ.
Вотъ, напримѣръ, темы въ одномъ изъ нихъ (изъ одного полуго-
дія): жизнь арабовъ; занятія индусовъ
(для III класса); занятія
андалузцевъ; праздничныя развлеченія итальянцевъ (для IV класса);
бытъ вотяковъ; жизнь самоѣдовъ (для V класса). Въ томъ же учи-
лищѣ воспитанницы писали объ образѣ жизни и занятіяхъ сартовъ,
киргизовъ, лопарей и проч.
Могутъ сказать, что иначе по географіи трудно и темы найти,
63
если исключить все вышеуказанное. Но, во-первыхъ, съ этимъ едва
ли можно согласиться: найдутся и иныя темы. А во-вторыхъ, если
бы дѣйствительно по географіи не было подходящихъ темъ, то
лучше было бы сократить количество сочиненій по географіи, чѣмъ
тратить учебное время на описаніе быта и занятій андалузцевъ,
итальянцевъ, или вотяковъ, самоѣдовъ, лопарей, остяковъ и т. п.
Одна изъ существенныхъ сторонъ, которымъ должны удовле-
творять темы,
даваемыя для письменныхъ работъ учащихся, это—
простота и удобопонятность ихъ, вообще—извѣстность учащимся
содержанія, подлежащаго изложенію. Письменная работа дается въ
низшемъ учебномъ заведеніи не для цѣлей разработки предмета и
даже не для пріученія учащагося къ методической работѣ въ
изслѣдованіи предметовъ знанія: первая изъ этихъ цѣлей можетъ
входить въ задачи работъ въ высшемъ учебномъ заведеніи, вторая
умѣстною является и въ среднемъ учебномъ заведеніи, взятомъ
въ высшихъ
его классахъ. Задача же письменной работы низшаго
учебнаго заведенія заключается главнымъ образомъ въ наученіи
грамотно излагать мысли, т. е. орѳографически, стилистически и от-
части логически правильно. А эта задача, сводящаяся къ науче-
нію правильно владѣть словомъ, лучше всего осуществляется, если
письменная словесная работа производится надъ извѣстнымъ содер-
жаніемъ и если не приходится много тратить умственной энергіи
на изученіе самаго предмета.
Требованію этому не удовлетворяютъ
какъ темы въ родѣ
большинства приведенныхъ выше, потому что онѣ умѣстны больше
для цѣлей усвоенія воспитанниками извѣстнаго учебнаго содержа-
нія, такъ и вообще темы, не расчитанныя съ силами учащихся.
Несообразованность темъ для письменныхъ работъ съ силами уча-
щихся также встрѣчается на практикѣ; иногда она относится къ
содержанію темы, иногда къ формулировкѣ ея (какъ, напр., такая
тема: «постоянныя теченія вѣтра оправдываютъ ли причину вѣтра»?).
Случается, что тема дается,
хотя и не трудная по содержанію,
но непосильно сложная по выполненію, какъ напримѣръ: «краткое
описаніе внѣтропической южной Африки: а) природа страны—устрой-
ство поверхности, орошеніе, климатъ, растенія, животныя и на-
селеніе страны; б) политическое раздѣленіе ея между португаль-
цами, нѣмцами и англичанами». Или: «церковные праздники, обо-
64
значеніе ихъ въ богослужебныхъ книгахъ и главнѣйшія особен-
ности чинопослѣдованія». Раскрытіе такихъ темъ составляетъ логи-
ческую работу, не подходящую для сочиненія ученика духовнаго
училища.
Дидактическая послѣдовательность въ назначеніи письмен-
ныхъ работъ учащимся имѣетъ для успѣха въ выполненіи этихъ
работъ особенно важное значеніе. Но въ этомъ отношеніи обычно
допускаются на практикѣ разнаго рода недочеты.
Въ большинствѣ случаевъ
послѣдовательность видовъ пись-
менныхъ работъ бываетъ такая: въ I классѣ даются на урокахъ
диктанты; во II классѣ къ класснымъ диктантамъ присоединяются
домашнія письменныя работы въ формѣ переложеній басенъ или
стихотвореній и въ формѣ пересказовъ разныхъ статеекъ; въ III—IV
классахъ уже даются болѣе сложныя работы въ формѣ повѣство-
ваній, разсказовъ, описаній; переложенія и пересказы бываютъ и
въ этихъ классахъ.
Извѣстная степень послѣдовательности имѣется безъ сомнѣнія
и
въ этомъ расположеніи формъ письменныхъ работъ; но она все
же не настолько полна и глубока, чтобы въ должной мѣрѣ соотвѣт-
ствовать дидактическимъ требованіямъ.
Нельзя не отмѣтить прежде всего обычно большого обилія перело-
женій и пересказовъ, даваемыхъ учащимся: они не только напол-
няютъ нерѣдко все содержаніе работъ II класса, но часто явля-
ются и главнымъ видомъ работъ въ III классѣ и даже переходятъ
затѣмъ въ IV классъ. Между тѣмъ этотъ видъ работъ, при нѣко-
торыхъ своихъ
достоинствахъ, имѣетъ дидактическія неудобства:
переложеніе хорошо тѣмъ, что оно даетъ учащемуся готовое содер-
жаніе для работы, но оно неудобно въ то же время тѣмъ, что
стѣсняетъ и даже сковываетъ мысль учащагося опредѣленными сло-
вами и выраженіями, отъ которыхъ ученикъ отрѣшиться бываетъ
обычно не въ состояніи и его работа получаетъ характеръ «спи-
сыванія». Если такого рода работы бываютъ не часто и переме-
жаются другими работами, дидактическій недостатокъ этотъ не
только
ослабляется, но и возмѣщается дидактическими качествами
другихъ работъ. Когда же дается только все переложеніе и пере-
ложеніе, въ теченіе цѣлаго года, —обратная сторона такихъ работъ
неизбѣжно должна обнаруживать себя во всей силѣ. И чѣмъ выше
65
классъ, тѣмъ менѣе полезны съ дидактической точки зрѣнія стано-
вятся эти работы, препятствуя свободному развитію словесныхъ
формъ мыслительной дѣятельности и лишь изощряя учениковъ въ
постиженіи искусства списыванія съ чужихъ работъ, чрезъ пери-
фразы и перестановки словъ.
Затѣмъ заслуживаютъ вниманія нерѣдко встрѣчающіеся факты:
а) назначаются для работъ въ IV классѣ описанія и б) въ то же
время совершенно не даются въ училищахъ письменныя
работы въ
формѣ разсужденій. Описаніе — самая простая форма письменной
работы, дидактически болѣе всего удобная для письменныхъ занятій
на самыхъ первыхъ ступеняхъ элементарнаго образованія, такъ
какъ здѣсь теченіе мысли вполнѣ совпадаетъ съ постоянными зри-
тельными воспріятіями и логика мысли находитъ для себя до при-
нудительности ясное выраженіе во внѣшнихъ предметахъ и ихъ
взаимныхъ отношеніяхъ. Постоянство же наблюдаемой и описы-
ваемой обстановки даетъ преподавателю возможность
съ надлежа-
щею полнотою и тщательностью разработать съ учащимся .данное
логическое содержаніе. И вдругъ, не смотря на все это, вы встрѣ-
чаетесь съ фактомъ, что въ IV классѣ, т. е. выпускнымъ уже
воспитанникамъ, дается такая элементарная въ дидактическомъ
отношеніи письменная работа, какъ описаніе—«Наша классная
комната»! А работъ въ формѣ разсужденій ученики еще и не писали.
Имѣетъ весьма важное дидактическое значеніе и то обычно
встрѣчающееся на практикѣ обстоятельство, что
переходъ къ состав-
ленію сложныхъ письменныхъ работъ происходитъ безъ предвари-
тельной къ тому подготовки: въ I классѣ—диктантъ, во II классѣ—
сразу переложеніе или пересказъ, а иногда бываетъ и такъ, что та-
кія работы, какъ переложенія и пересказы, начинаются уже съ
I класса и даже съ приготовительнаго класса. И переложеніе и
пересказъ—сложная въ дидактическомъ отношеніи работа, состоя-
щая изъ сочетанія разнообразныхъ сужденій въ извѣстное цѣлое.
Прежде чѣмъ перейти къ ней,
нужно научить ученика не только
правильно писать отдѣльныя слова, по крайней мѣрѣ—какъ конкрет-
ныя наименованія предметовъ и дѣйствій, но — и сочетанія словъ
въ предложенія, которыя, въ свою очередь, имѣютъ свою постепен-
ность, соотвѣтственно ихъ составу и полнотѣ. Только тогда уже
станетъ ученику посильною такая работа, какъ сочетаніе многихъ
66
сужденій въ соотвѣтственное цѣлое — статью, разсказъ. Правда, на
практикѣ встрѣчаются иногда нѣкоторыя дидактическія воспособле-
нія на первыхъ ступеняхъ такихъ работъ: переложеніе или пере-
сказъ дѣлается по данному впередъ плану или по вопросамъ.
Нельзя не признать, что это дѣйствительно облегчаетъ для учени-
ковъ выполненіе трудной для нихъ работы, но едва ли можно сказать,
что это замѣняетъ правильную методическую подготовку учащихся
къ
разсматриваемой работѣ.
На такія подготовительныя работы въ пріученіи учащихся
къ изложенію своихъ мыслей письменно вполнѣ удобно можно было
бы употреблять учебное время, падающее на первый классъ учи-
лища (хотя начало ихъ должно относиться къ еще болѣе раннему
періоду обученія — къ начальной ступени обученія, слѣдовательно —
къ приготовительному еще классу училища и вообще къ школѣ эле-
ментарной). Въ назначеніи этихъ работъ должна быть, въ свою
очередь, своя система, своя постепенность
и послѣдовательность. Но
это — уже вопросъ методики предмета, на которомъ здѣсь останав-
ливаться не будемъ.
Въ нѣкоторыхъ училищахъ, въ цѣляхъ установленія посте-
пенности въ назначеніи учащимся письменныхъ работъ, работы эти
даются по типамъ ихъ: описаніе, переложеніе, повѣствованіе и
проч. Это, конечно, въ той или иной мѣрѣ содѣйствуетъ установле-
нію нѣкоторой дидактической постепенности въ этой части учебнаго
дѣла въ школѣ. Но мѣра эта касается лишь нѣкоторыхъ общихъ
сторонъ
вопроса, не исчерпывая его, такъ какъ, не говоря о пред-
варительной подготовкѣ къ составленію описаній, повѣствованій и
проч., — въ проработкѣ этихъ самыхъ типовъ есть своя частнѣйшая
послѣдовательность: могутъ быть разныя по трудности описанія,
переложенія, повѣствованія, и нельзя между этими типами уста-
новить опредѣленную для всѣхъ случаевъ послѣдовательность. Во-
просъ этотъ разносторонній и сложный; онъ не рѣшается распла-
нировкою лишь типовъ работъ. Притомъ же и при различеніи,
въ
расписаніяхъ, типовъ работъ допускались фактически такія
иногда, напримѣръ, нарушенія дидактическихъ требованій: во II
классѣ, за полугодіе, изъ 7 письменныхъ работъ было въ училищѣ
5 переложеній, въ III классѣ изъ 7 работъ — 3 переложенія, пере-
сказы назначались и въ IV классѣ, а въ I классѣ они иногда въ
67
теченіе всего года являлись единственною формою письменныхъ ра-
ботъ.
Другая, отдѣльная отъ внутренняго содержанія и изложенія,
сторона письменныхъ работъ учащихся—это: орѳографическая пра-
вильность ихъ. Для достиженія точности, логичности и стройности въ
изложеніи мыслей необходимо соблюденіе при обученіи однихъ ди-
дактическихъ требованій и примѣненіе однихъ пріемовъ, а для на-
ученія орѳографической грамотности требуется другая система
пріе-
мовъ, съ особыми, лежащими въ основаніи ихъ, дидактическими
требованіями. Несоблюденіе одного ведетъ къ безграмотности въ
изложеніи, несоблюденіе другого—къ безграмотности въ начертаній.
Существеннѣйшую важность въ отношеніи къ наученію орѳо-
графической правильности имѣетъ предупрежденіе ошибокъ со сто-
роны учащихся. На это обстоятельство на практикѣ мало обра-
щается вниманія, и обычно вниманіе преподавателя сосредоточи-
вается на исправленіи уже допущенныхъ учениками
грамматиче-
скихъ неправильностей. Между тѣмъ бороться съ допущенными уже
учениками фактически ошибками въ наилучшемъ случаѣ—нелегко,
обычно же—весьма и весьма трудно, потому что здѣсь устанавли-
ваются у ученика весьма сложныя ассоціаціи—не только психи-
ческія, но п психо-физіологическія: допускаемая ученикомъ грамма-
тическая ошибка, какъ психическое переживаніе, входитъ въ ассо-
ціацію съ тѣми пли иными представленіями, а иногда—чувствова-
ніями и даже движеніями воли, затѣмъ—съ
рядомъ психо-физіоло-
гическихъ элементовъ—съ воспріятіями зрѣнія, слуха, мускульно-
двигательными ощущеніями, такъ какъ въ совершеніи психо-физіо-
логическаго акта, хотя и причисляемаго нами потомъ къ разряду
«ошибокъ.), принимаютъ участіе и слухъ, воспринимающій произно-
симыя слова, и рука, пишущая извѣстныя буквы и ихъ сочетанія,
и зрѣніе, видящее какъ всѣ эти письменныя начертанія, такъ и
многое другое—предметъ, подлежащій наблюденію, учителя, про-
износящая диктуемыя слова,
товарища, около даннаго лица сидя-
щаго, и проч. Все это, какъ и во всѣхъ нашихъ нормальныхъ
психо-физіологическихъ актахъ, неуловимыми нитями психическихъ
и физіологическихъ ассоціацій соединяется вмѣстѣ, скрѣпляется
повтореніемъ и противостоитъ позднѣйшимъ попыткамъ разорвать
эти ассоціаціи, иногда до того, что допущенныя въ дѣтствѣ ошибки,
68
не смотря на попытки къ исправленію ихъ, удерживаются въ пси-
хикѣ человѣка всю жизнь его. Поэтому-то нерѣдко и случается, что
ученикъ, прошедшій начальную и среднюю школу, получившій уже
много непріятностей ва тѣ или иныя грамматическія ошибки и, по-
видимому, даже хорошо замѣтившій ихъ, вдругъ снова нечаянно
повторяетъ ихъ, ставши студентомъ, или даже получивши ученый
дипломъ.
Въ виду этого, при предупрежденіи ошибокъ, необходимо
обращать
вниманіе: а) на правильность и отчетливость слуховыхъ
воспріятіи и рѣче-двигательнаго процесса у учащихся, при вос-
приниманіи произносимыхъ другими словъ и собственномъ ихъ про-
изношеніи, и б) на отчетливыя воспріятія зрѣнія и мускульныхъ
движеній при начертаній словъ. Фонетическія и вообще граммати-
ческія разъясненія со стороны преподавателя разумѣются въ связи
съ этимъ само собой и содѣйствуютъ правильному и отчетливому
прохожденію означенныхъ психо-физіологическихъ моментовъ.
По-
втореніе явится въ рукахъ преподавателя, въ дополненіе къ этому,
дидактически-важнымъ средствомъ закрѣпленія и упрощенія установ-
ленныхъ такимъ образомъ у ученика интеллектуально-грамматиче-
скихъ ассоціацій.
Обычно между упражненіями орѳографическими и упражне-
ніями, назначенными служить къ наученію правильности изложенія
мыслей, полагается значительная раздѣляющая грань, и для первой
цѣли служитъ диктантъ, занимающій въ нѣкоторыхъ училищахъ
все учебное время I класса,
а для второй цѣли служатъ даваемыя
учащимся со II класса сочиненія. Между тѣмъ, правильнѣе было
бы вести тѣ и другія упражненія въ болѣе тѣсной связи и
взаимно-объединенной системѣ. Для этого необходимо организовать
въ I классѣ систему дидактически-правильныхъ упражненій въ эле-
ментарномъ изложеніи мыслей, начиная съ отдѣльныхъ названій
предметовъ, какъ грамматическихъ подлежащихъ, переходя къ на-
званію признаковъ предметовъ, дѣйствій и состояній, какъ сказуе-
мыхъ, и постепенно
осложняя это сочетаніе другими членами пред-
ложенія, а потомъ переходя и къ разнообразнымъ сочетаніямъ
предложеній или сужденій. Орѳографическое начертаніе словъ само
собою будетъ входить въ эту грамматико-стилистическую работу,
какъ естественное внѣшнее выраженіе ея.
69
Методическая систематичность во всѣхъ этихъ упражненіяхъ
имѣетъ существенно-важное значеніе, и въ I классѣ раздѣлять эту
работу между разными лицами, допуская къ участію въ ней дру-
гихъ преподавателей, кромѣ преподавателя русскаго языка, было бы
невозможно, безъ ущерба для самаго дѣла. Во II классѣ, къ пере-
ходу въ который періодъ элементарныхъ упражненій, падающій на
приготовительный и I классъ, уже достаточно закончится, допустимо
въ назначеніи
письменныхъ работъ нѣкоторое участіе и другихъ
преподавателей, при условіи, конечно, согласованныхъ дидактиче-
скихъ дѣйствій и при преимущественномъ значеніи въ этомъ все же
преподавателя русскаго языка, хотя было бы вполнѣ естественно
здѣсь и самостоятельное, единоличное руководство письменными ра-
ботами со стороны преподавателя русскаго языка. Въ старшихъ
же классахъ, третьемъ и четвертомъ, при правильномъ веденіи
дѣла въ младшихъ классахъ, основное значеніе получалъ бы вопросъ
о
наученіи воспитанниковъ правильному изложенію мыслей, съ
грамматико-орѳографическими сторонами русскаго языка, связанными
съ синтаксисомъ его. Участіе другихъ преподавателей Бъ этихъ
работахъ, въ виду уже достигнутаго учащимися развитія и рас-
ширенія объема ихъ знаній, становится въ этихъ классахъ уже
вполнѣ возможнымъ, при условіи согласованности ихъ дѣйствій въ
методическомъ отношеніи.
Факты показываютъ, что наибольшее число малоуспѣвающихъ
въ духовныхъ училищахъ бываетъ по
письменнымъ работамъ уча-
щихся: малоуспѣшныхъ здѣсь въ большинствѣ случаевъ бываетъ
около половины всего состава учащихся, а иногда и больше. Сло-
жилось мнѣніе, заявляемое обычно въ отзывахъ преподавателей,
что письменныя работы, въ частности русское правописаніе, пред-
ставляютъ камень преткновенія въ учебныхъ заведеніяхъ. Значи-
тельная малоуспѣшность учащихся, оффиціальныя и неофиціальныя
заявленія корпорацій семинарій о неудовлетворительности письмен-
ныхъ работъ у учениковъ,
поступающихъ въ семинаріи изъ учи-
лищъ, подтверждаютъ такое мнѣніе училищныхъ корпорацій. При-
чина же этого заключается не столько въ существѣ самаго предмета
преподаванія, сколько въ недостаткѣ дидактической правильности
въ постановкѣ преподаванія его въ учебныхъ заведеніяхъ. И если
бы, въ оправданіе этого, указали на одинаковую малоуспѣшность
70
преподаванія русскаго языка въ этомъ отношеніи въ разныхъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ и разныхъ учебныхъ вѣдомствъ, то это лишь
свидѣтельствовало бы, что вопросъ здѣсь, какъ это въ дѣйствитель-
ности и есть, стоитъ шире и что вообще недостаточно правильно съ
дидактической стороны поставлены въ учебныхъ заведеніяхъ пись-
менныя работы учащихся. Требуется частнѣйшая и тщательная
дидактическая разработка этого вопроса какъ съ общихъ его сторонъ,
такъ
и въ тѣхъ частныхъ особенностяхъ, которыми опредѣляется
учебная жизнь каждаго вида учебныхъ заведеній.
VI.
Переходимъ къ группѣ предметовъ—ариѳметика, географія it
природовѣдѣніе, объединенныхъ въ духовныхъ училищахъ въ одну
каѳедру, отчасти также соприкасающихся между собою и содержа-
ніемъ.
1. На ариѳметику въ духовныхъ училищахъ назначено въ
четырехъ классахъ 12 уроковъ,—болѣе, чѣмъ положено на нее въ
гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, гдѣ она преподается въ трехъ
младшихъ
классахъ при 10 урокахъ. И однакоже въ семинаріяхъ
обычно заявляютъ недовольство на подготовку, даваемую въ учи-
лищахъ по ариѳметикѣ; нерѣдко такое недовольство получаетъ
характеръ формально-заявляемыхъ преподавателями математики
жалобъ на это. Жалобы эти небезосновательны: дѣйствительно, уче-
ники училищъ, поступившіе въ семинаріи, обычно обнаруживаютъ
недостаточный навыкъ къ математическому мышленію, и алгебраи-
ческій языкъ усвоивается ими нелегко, хотя по существу дѣла алге-
браическія
выраженія тождественны съ ариѳметическими обобще-
ніями, а слѣдовательно, и въ пониманіи ихъ у того, кто усвоилъ
ариѳметику, затрудненій не должно бы быть.
Причина, создающая эти факты, заключается, ближайшимъ обра-
зомъ, не въ недостаткѣ усердія у учениковъ или у преподавателей
ариѳметики въ училищахъ и не въ недостаткѣ также умѣнья у по-
слѣднихъ правильно вести преподаваніе этого предмета: причина
этого заключается, главнымъ образомъ, въ установленной программою
отчужденности
ариѳметики отъ алгебры и въ искусственно со-
здаваемой чрезъ это привычкѣ учащихся лишь къ тѣмъ формамъ
71
математическихъ обобщеній, которыя требуются для нуждъ ариѳме-
тическихъ вычисленій, вслѣдствіе чего, при переходѣ въ семинаріи
къ алгебрѣ, ученику кажется, точно будто онъ вступаетъ теперь
въ область совершенно другой науки, къ которой ариѳметика имѣетъ
лишь отдаленное отношеніе. Въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ препода-
ватели математики прибѣгаютъ поэтому въ I классѣ сначала къ
повторенію важнѣйшихъ отдѣловъ ариѳметики, съ обобщеніями
ариѳметическихъ
данныхъ въ сближенныхъ съ алгеброю форму-
лахъ. Тогда ученики довольно удовлетворительно освоиваются съ
сущностью алгебраическаго языка, и занятія по алгебрѣ идутъ
успѣшнѣе.
Все это показываетъ, что въ постановкѣ преподаванія ариѳме-
тики, для улучшенія успѣховъ ея изученія, требуется сдѣлать со-
отвѣтственныя программный измѣненія и перенести нѣкоторые эле-
менты алгебры въ училищный курсъ. Нужно думать, что такое измѣ-
неніе и состоится въ связи съ предстоящею реформою духовной
школы.
Независимо
отъ этого программнаго недостатка, въ учебной
практикѣ встрѣчаются и нѣкоторые методическіе недочеты, кото-
рые неизлишне отмѣтить.
Въ преподаваніи математики существенную важность имѣютъ
первые шаги его, или лучше—первые пріемы мыслительной мате-
матической работы учащагося. Основы математическаго мышленія
присущи нашему уму по природѣ его; но для того, чтобы мысли-
тельная работа эта шла успѣшно, требуется правильная постановка
ея съ самаго начала. Въ обыкновенномъ своемъ теченіи
практи-
ческая жизнь не всегда вызываетъ умъ маловозрастнаго на точ-
ныя сопоставленія предметовъ по объему, количеству и проч. и
не всегда такимъ образомъ вынуждаетъ умъ человѣка къ производ-
ству математическихъ вычисленій, или же требуетъ примѣненія этой
формы мышленія лишь въ самыхъ несложныхъ пріемахъ. Препо-
даваніе должно восполнить этотъ пробѣлъ практической дѣйствитель-
ности и дать уму учащагося правильную математическую работу.
Существо этой работы вездѣ одинаково—на
самыхъ элементарныхъ
ступеняхъ изученія ариѳметики и въ самыхъ высокихъ формахъ
математическаго анализа. Понять и усвоить себѣ существо матема-
тическаго мышленія всего легче и естественнее на простыхъ его
72
случаяхъ и можно было бы даже сказать, что кому не пришлось
или не удалось почему - либо этого сдѣлать, тотъ навсегда оста-
нется въ разрядѣ тѣхъ,. кого обычно причисляютъ къ неспособ-
нымъ къ математикѣ. Такая мнимая неспособность къ математикѣ
можетъ нерѣдко сочетаться съ проявленіемъ богатыхъ другихъ
способностей у человѣка.
Не всегда въ преподаваніи математики принимается все это
въ соображеніе, и первые опыты малолѣтка въ математическимъ
мышленіи
нерѣдко бываютъ далеки отъ методической ихъ правиль-
ности. Правда, время первоначальнаго математическаго образованія
падаетъ на періодъ до поступленія въ духовное училище—на на-
чальную школу или домашнюю подготовку. Но все же и въ духов-
номъ училищѣ въ I—II классахъ можно еще многое сдѣлать или
не сдѣлать для цѣлей правильной постановки ума учащагося въ
математическихъ его операціяхъ. Въ виду своей особой важности,
задача эта должна бы считаться для этихъ классовъ даже главнѣй-
шею,
тѣмъ болѣе, что, въ случаѣ игнорированія ея, и программный
работы, какъ бы много труда ни употреблялось на нихъ, не могутъ
идти успѣшно. Въ большинствѣ случаевъ, впрочемъ, едва ли и по-
требуются, ради этой цѣли, какія-либо особыя задержки въ ходѣ
программныхъ работъ, кромѣ развѣ перваго полугодія по поступ-
леніи учениковъ въ училище, съ разною подготовкою и съ раз-
ными пріемами въ производствѣ вычисленій: указанная нужда удо-
влетворяется сама собою правильною въ дидактическомъ
отношеніи
работою преподавателя, если онъ будетъ принимать во вниманіе
тѣ стороны пріемовъ математической мыслительной работы, которыя
имѣютъ первостепенную важность и въ періодѣ первоначальныхъ
занятій по математикѣ.
Количественныя опредѣленія вещей, лежащія въ основаніи
чиселъ п числовыхъ комбинацій, даны въ самыхъ вещахъ и перво-
начально воспринимаются вмѣстѣ съ вещами. Но числовыя отноше-
нія сами по себѣ составляютъ уже выводъ изъ данныхъ воспріятіи
и потому даже на
первыхъ ступеняхъ математическихъ обобщеній
они получаютъ для нашей мысли такую степень отвлеченности, что,
въ періодъ первоначальныхъ математическихъ занятій, безъ кон-
кретныхъ поясненій не имѣютъ достаточной ясности для учащагося
ума. Такъ, напримѣръ, числовыя отношенія 5-|-3 = 8, 8 : 4 = 2 или
73
6—2=4, 2X3 = 6, какъ ни кажутся они простыми и ясными для
математически развитаго ума, требуютъ для учащагося конкрет-
ныхъ наглядныхъ разъясненій на самыхъ предметахъ, или же
сообщаемое ему будетъ усвоено молодымъ умомъ неотчетливо, не
ясно, а иногда и прямо механически. Поступающія въ духовное
училище дѣти, конечно, не находятся въ томъ умственномъ и физи-
ческомъ возрастѣ, чтобы нуждались въ такихъ элементарныхъ разъ-
ясненіяхъ и упражненіяхъ,
какія предполагаются приведенными
примѣрами. Но нельзя не имѣть въ виду, что эти же самыя эле-
ментарныя числовыя отношенія, сводящіяся къ основнымъ четыремъ
ариѳметическимъ дѣйствіямъ, точнѣе—къ двумъ — прибавленіи), и
отбавленію, лежатъ въ основаніи всѣхъ дальнѣйшихъ математиче-
скихъ вычисленій, какъ бы сложны они ни были. Существо пра-
вильнаго обученія состоитъ въ томъ, чтобы на каждой ступени
математическаго анализа учащійся умъ поставлялся въ отчетливую
возможность ясно
понимать эти основныя числовыя отношенія во
всякой новой и неизбѣжно—болѣе сложной обстановкѣ ихъ примѣ-
ненія. Положеніе это признается и подтверждается всякій разъ, когда
говорятъ, что дѣйствія надъ именованными числами могутъ быть
понятны для учащагося только послѣ усвоенія имъ тѣхъ же дѣй-
ствій надъ отвлеченными числами, или—что къ изученію дѣйствій
надъ дробями можно переходить только по изученіи дѣйствій надъ
цѣлыми числами, къ изученію пропорціи послѣ изученія тѣхъ и
другихъ
и т. д. Математическій анализъ осложняется, растетъ, а
въ основаніи его лежитъ, такимъ образомъ, изученное еще на са-
мыхъ первыхъ ступеняхъ обученія, до таблицы умноженія вклю-
чительно.
Все это поставляетъ преподавателя въ дидактическую необ-
ходимость помнить о надобности отчетливаго и твердаго усвоенія
учащимся, прежде всего, элементарнаго и основного въ ариѳметикѣ.
и онъ никогда не сдѣлаетъ ошибки, если обратитъ мысль учащагося
къ корнямъ математическаго анализа. Учебная
практика нерѣдко
представляетъ примѣры оставленія этого преподавателями безъ
должнаго вниманія.
Занятія по ариѳметикѣ въ училищахъ затѣмъ довольно часто
имѣютъ слишкомъ отвлеченный характеръ и упражняютъ мысль
учащагося въ отвлеченныхъ числовыхъ вычисленіяхъ безъ соотвѣт-
74
ственныхъ конкретныхъ образовъ. Приходилось встрѣчаться, что
рѣшаются, напримѣръ, ученикомъ I или II класса задачи, съ упоми-
наніемъ футовъ, дюймовъ, метровъ, драхмъ, грановъ и т. д., и уче-
никъ, высчитывая дюймы, метры, не имѣетъ о нихъ никакого
отчетливаго представленія, такъ какъ никогда не видѣлъ ихъ, или
принимаетъ, напримѣръ, величину дюйма въ 1—2 вершка. Случа-
лось, что ученикъ высчитывалъ кубическіе футы, не зная конкретна
ни куба,
ни фута. Въ данныхъ случаяхъ не то прежде всего
важно, что ученикъ не имѣетъ опредѣленныхъ знаній, допустимъ—
мѣръ длины, вѣса аптекарскаго или метрическихъ мѣръ, хотя и это
не лишено большого значенія: важно главнымъ образомъ то, что
математическая мысль учащагося вращается точно въ туманѣ, рабо-
тая безъ должной ясности и отчетливости,—условій, важныхъ во
всѣхъ формахъ мыслительной дѣятельности, но, быть можетъ, едва
ли не болѣе всего—въ математикѣ.
Недостатокъ ариѳметической
наглядности настолько распро-
страненъ, что отсутствіе комплекта наглядныхъ пособій въ ариѳме-
тикѣ—довольно обычное явленіе по духовнымъ училищамъ. Бы-
ваетъ и такъ, что если и есть какія-либо изъ наглядныхъ посо-
бій, то они, по ихъ дидактической элементарности, считаются при-
надлежностью приготовительныхъ классовъ и въ I классѣ примѣне-
нія не находятъ. Случалось встрѣчаться съ мнѣніемъ, что они
даже и не нужны въ этомъ классѣ и тѣмъ болѣе во II классѣ,
хотя бы ученикъ и не
видѣлъ никогда, положимъ, мѣръ вѣса апте-
карскаго или метрическихъ.
Словесно-отвлеченныя разъясненія, какъ бы они правильны и
точны ни были, не могутъ считаться достаточными на всемъ про-
тяженіи преподаванія ариѳметики и тѣмъ болѣе въ младшихъ
классахъ духовныхъ училищъ. Конкретизація въ той или другой
формѣ нужна здѣсь всюду, рѣшается ли какая задача, обстановка
которой должна ясно, въ образахъ, представляться уму учащагося,
или разъясняется ученику то или иное дѣйствіе, правило.
Случа-
лось убѣждаться на практикѣ, что ученики плохо, напримѣръ, по-
нимали дроби и дѣйствія надъ ними оттого, что преподаваніе,
связанное съ этимъ ариѳметическимъ отдѣломъ, шло отвлеченно.
Не имѣется здѣсь въ виду входить въ методическіе вопросы
ариѳметики; но не излишне отмѣтить, что строгая послѣдователь-
75
ноетъ въ постановкѣ разъясненій и сведёніе числовыхъ отношеній*
по возможности, къ элементарнымъ ихъ основаніямъ имѣютъ особо
важное значеніе для изучающихъ ариѳметику. Послѣдовательность
въ математикѣ то же, что логическая послѣдовательность въ нашемъ
мышленіи, и безъ нея не можетъ быть ни правильнаго математи-
ческаго вывода, ни умственно-воспитательнаго вліянія занятій по
математикѣ. Сохраненіе послѣдовательности въ раскрытіи числовыхъ
отношеній
ведетъ и къ соблюденію другого дидактическаго правила—
относительно сведенія числовыхъ отношеній къ ихъ элементарнымъ
первооснованіямъ и установленія черезъ это возможнаго однообра-
зія въ математическихъ объясненіяхъ.
Практическія наблюденія затѣмъ показываютъ, что препода-
ватели иногда придаютъ преувеличенное значеніе усвоенію учени-
ками правилъ изучаемыхъ ими дѣйствій. Конечно, технику извѣст-
наго ариѳметическаго дѣйствія ученикъ долженъ отчетливо знать, и
съ этой точки
зрѣнія требованіе отъ учениковъ, чтобы они знали
правила, имѣетъ за себя основанія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не
имѣть въ виду, что еще важнѣе образовать у учащагося правиль-
ный методъ математическаго мышленія, который, будучи примѣ-
ненъ къ данному дѣйствію, какъ и во всякомъ иномъ случаѣ, самъ
собою приведетъ разсуждающій математическій умъ къ тому же
правилу. Правило можно забыть, а навыкъ къ математическому
анализу, разъ прібрѣтенный, сохранится дольше и вѣрнѣе. И, во
всякомъ
случаѣ, сосредоточеніе вниманія на ариѳметическихъ пра-
вилахъ легко ведетъ къ механическому ихъ заучиванію, — что
составляетъ уже прямой ущербъ для успѣшности въ занятіяхъ.
Важно понимать ариѳметическія дѣйствія и только уже затѣмъ
облекать это пониманіе, для краткости, въ извѣстныя правила^
Требованіе же отъ учениковъ, какъ это случалось видѣть, прежде
всего и обычно «правилъ» можетъ идти въ ущербъ пониманію
изучаемаго, а затѣмъ отражаться неблагопріятно и вообще на раз-
витіи
математическаго мышленія.
Нельзя затѣмъ обойти молчаніемъ нерѣдко встрѣчающіеся не-
достатки въ преподаваніи ариѳметики—сосредоточивать вниманіе
на письменныхъ формахъ математическихъ вычисленій и оставлять,
безъ использованія пріемы умственнаго счисленія. Карандашъ съ*
бумагою и тѣмъ болѣе—мѣлъ или грифель съ доскою далеко не
76
всегда могутъ являться къ нашимъ услугамъ—при нуждѣ про-
извести то или иное вычисленіе, чтобы расчитать хотя бы стои-
мость произведенныхъ покупокъ Поэтому и для практической
жизни важно образовать у учащагося достаточный навыкъ къ
умственному рѣшенію задачъ п умственному производству, по
крайней мѣрѣ, несложныхъ вычисленій. Между тѣмъ, нерѣдко встрѣ-
чаются случаи, что ученики совсѣмъ не ознакомляются съ пріе-
мами умственнаго счисленія или
упражняются въ нихъ слишкомъ
недостаточно, вслѣдствіе чего, напр., ученики IV класса оказыва-
ются не въ состояніи умственно умножить встрѣтившіеся при рѣше-
ніи задачъ 25Х7, или сократить дробь 72/36 на 36; въ HI классѣ
не могутъ помножить 26X40, въ I классѣ 50X7 или отыскать
У5 часть 50, а во II классѣ затрудняются дробь 5/6 увеличить
умственно въ 3 раза. Важность навыка въ умственномъ счетѣ для
практической жизни достаточно очевидна, чтобы нужно было оста-
навливаться на развитіи
этой мысли. Но еще важнѣе это съ точки
зрѣнія правильной постановки математическаго мышленія, такъ какъ
требуется именно мысль учащагося пріучить къ математической
гибкости и оборотливости. А это достигается лучше всего планомѣр-
ными упражненіями въ умственномъ счисленіи, хотя бы на неслож-
ныхъ задачахъ, но исчерпывающихъ элементарныя типическія
формы числовыхъ отношеній и слѣдовательно—типическія элемен-
тарныя формы математическаго мышленія.
Не составляютъ, поэтому, достоинства
преподаванія трудныя
задачи, которыя нерѣдко даются учащимся. Ариѳметическіе задач-
ники обычно составляются такъ, что являются сборникомъ самыхъ
замысловатыхъ математическихъ сочетаній, какихъ жизнь обычно
никогда не представляетъ. Могутъ сказать, что такія замыслова-
тыя упражненія нужны въ цѣляхъ изощренія ума учащихся въ
математическихъ вычисленіяхъ. Но замысловатыя, трудныя задачи
даются не тѣмъ только, кто вполнѣ хорошо свыкся со всѣми иными,
простѣйшими, формами вычисленій:
онѣ даются нерѣдко прямо не
по силамъ учениковъ и въ ущербъ такого рода занятіямъ ихъ,
которыя, дѣйствительно, могли бы способствовать успѣху въ мате-
матическимъ развитіи ума учащихся.
Нельзя не имѣть въ виду и въ этомъ случаѣ, что гибкость мате-
матической мысли, по крайней мѣрѣ—въ разсматриваемъ^ періодъ
77
развитія, гораздо успѣшнѣе пріобрѣтается на элементарныхъ упраж-
неніяхъ, чѣмъ на сложныхъ и трудныхъ вычисленіяхъ. Пріучите
ученика къ быстрой умственной сообразительности въ рѣшеніи не-
сложныхъ ариѳметическихъ задачъ и въ производствѣ несложныхъ
вычисленій, и этимъ положите прочный фундаментъ дальнѣйшему
поступательному развитію математической мысли его. Замысловатыя
же задачи иногда могутъ оказаться, съ точки зрѣнія ихъ методи-
ческой полезности,
въ положеніи одинаковомъ съ замысловатыми, до
парадоксальности, логическими примѣрами, иногда сообщаемыми уча-
щимся и безслѣдно потомъ исчезающими изъ ихъ памяти.
Этотъ путь методической работы вѣрнѣе ведетъ и къ тому
результату, который лучше всего обезпечиваетъ успѣхъ занятій но
математикѣ: къ развитію въ учащихся интереса къ этимъ заня-
тіямъ. Интересъ съ эмоціональной стороны предполагаетъ удоволь-
ствіе, испытываемое учащимся отъ совершаемой имъ умственной
работы, а такое
удовольствіе можетъ сопровождать только посиль-
ную, успѣшно идущую работу мысли. Затѣмъ, и съ интеллекту-
ально-практической стороны интереса, предполагающей постепенное
расширеніе умственныхъ ассоціацій опредѣленнаго содержанія и до-
ставленіе чрезъ это необходимаго матеріала для новой умственной
работы, представляется болѣе производительною и полезною именно та-
кая постепенно осложняющаяся дѣятельность математическаго мышле-
нія. Если къ производительной внутренней работѣ мысли
присоеди-
няется еще и сознаніе ученикомъ практической пользы отъ его
занятій, это явится для него новымъ обстоятельствомъ, которое въ
свою очередь также будетъ содѣйствовать развитію въ учащемся
интереса къ математическимъ занятіямъ. Ничто такъ не убиваетъ
интереса, какъ непосильная трудность работы, особенно если по
самому своему существу такая работа представляется искусственно-
придуманной, неосновательной и мало нужной.
2. Географія, по существу своему, есть описательная
наука,
и потому, повидимому, не могло бы быть въ преподаваніи ея столь
обычной въ другихъ предметахъ дидактической погрѣшности, обозна-
чаемой, какъ отвлеченность преподаванія. Однако, она находитъ для
себя мѣсто и здѣсь, хотя и въ измѣненномъ видѣ. Преподаваніе
географіи не страдаетъ отвлеченностью въ обычномъ значеніи этого
слова, какъ совокупностію сообщаемыхъ ученикамъ отвлеченныхъ
78
общихъ понятій; но часто и въ преподаваніи этого предмета при-
ходится наблюдать словесную, вербальную описательность вмѣсто
конкретной, предметной^ образной описательности, осуществимой
только въ связи съ умѣлымъ пользованіемъ наглядными пособіями,
которыхъ словами замѣнить нельзя, какъ бы хороши ни были эти
слова.
Въ обычномъ своемъ употребленіи наглядныя учебныя по-
добія служатъ для двухъ дидактическихъ цѣлей: они являются или
вспомогательнымъ
средствомъ для индуктивныхъ выводовъ при пре-
подаваніи, замѣняя собою изучаемую дѣйствительность, или же сред-
ствомъ иллюстрированія, конкретнаго поясненія, или демонстрирова-
нія сообщаемыхъ при преподаваніи свѣдѣній. Въ первомъ случаѣ
они стоятъ въ связи съ индуктивными пріемами обученія, во вто-
ромъ—съ дедуктивными.
При преподаваніи географіи наиболѣе примѣнимымъ является
второй случай, когда наглядныя пособія служатъ для конкретнаго
поясненія и иллюстрированія того, что
сообщено или сообщается
учащимся. При этомъ одновременно достигается и другая дидакти-
ческая цѣль: при помощи наглядныхъ учебныхъ пособіи не только
вызываются у учащихся образы дѣйствительныхъ предметовъ и
явленій, способствующее ясности усвоенія учащимися преподавае-
маго имъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ а) чрезъ эти конкретные элементы
упрочиваются ассоціаціи мысли у учащихся и закрѣпляются со-
общаемыя знанія, и б) эти же конкретныя данныя, объединяя и
укрѣпляя ассоціаціи мысли, являются
затѣмъ въ качествѣ мнемо-
ническаго средства для припоминанія.
При употребленіи наглядныхъ пособій преподаватель геогра-
фіи долженъ имѣть въ виду всѣ эти дидактическія стороны ихъ,
и только тогда наглядныя пособія будутъ приносить надлежащую
пользу. Но на это не всегда обращается вниманіе, и пользованіе
наглядными пособіями имѣетъ нерѣдко механическій характеръ,
упрочившійся въ школѣ съ того давняго времени, когда о дидактикѣ
совсѣмъ не думали въ ней.
Обычныя по географіи
наглядныя учебныя пособія—это гео-
графическія карты и глобусы, которыми, случалось, и исчерпывается
въ учебномъ заведеніи запасъ наглядныхъ пособій по географіи.
Но глобуса далеко недостаточно для нагляднаго объясненія
79
свѣдѣній изъ математической географіи,—и безъ другихъ пособій,
какъ теллурій, планетарій, картины по математической и физиче-
ской географіи, было бы невозможно пояснительно показать уче-
никамъ многое изъ того, что они учатъ по географіи изъ этого
отдѣла. Между тѣмъ, комплекта необходимыхъ пособій часто не бы-
ваетъ въ учебномъ заведеніи, и для учениковъ словесныя описанія
преподавателя по необходимости замѣняютъ собою все.
Дальше слѣдуютъ
географическія карты, пользованіе которыми
въ большинстве случаевъ такое: учитель, объясняя урокъ, показы-
ваетъ на картѣ соотвѣтственные пункты; ученикъ, отвѣчая урокъ,
дѣлаетъ то же самое.
Неизлишне замѣтить прежде всего, что и это не всегда дѣ-
лается: бываетъ, что преподаватель и ученики къ географической
картѣ обращаются мало и все учебное дѣло основывается, главнымъ
образомъ, ва словахъ и памяти.
А затѣмъ едва ли можно признать достаточнымъ одно лишь
обращеніе къ географической
картѣ, хотя бы даже и достаточно
аккуратное: топографическое положеніе изучаемыхъ мѣстностей
только тогда отчетливо воспринимается и запечатлѣвается въ па-
мяти, когда оно соединяется съ активнымъ воспроизведеніемъ
этого положенія въ сознаніи учащихся. Нѣкоторымъ вспомощество-
ваніемъ въ этомъ могутъ отчасти служить нѣмыя географическія
карты, или еще лучше—карты лишь съ общими контурами частей
свѣта, странъ, государствъ или ихъ частей: опредѣленіе положенія
рѣкъ, горъ, городовъ
по такимъ картамъ требовало бы со стороны
учащагося проявленія активности въ воспроизведеніи получаемыхъ
имъ, при помощи обычныхъ географическихъ картъ, воспріятіи и
содѣйствовало бы лучшему усвоенію изучаемаго.
Прямое же проявленіе означенной активности возможно лишь
чрезъ черченіе картъ, которое, при надлежащей подготовкѣ его,
могло бы служить существеннымъ пособіемъ при изученіи геогра-
фіи. Но черченіе картъ въ школьной практикѣ или совершенно не
примѣняется, или же примѣняется
въ постановкѣ, которую нельзя
признать правильной съ дидактической точки зрѣнія.
Черченіе картъ учащимися примѣняется при преподаваніи
географіи обычно во внѣшне-показной формѣ, какъ домашнія ра-
боты учащихся, производимый ими въ свободное время по оконча-
80
ніи изученія извѣстной страны, государства или части свѣта, и
притомъ по градусной сѣткѣ, съ соблюденіемъ всѣхъ частностей
рисунка оригиналовъ. При этомъ учащимися примѣняются, для облег-
ченія работы, съ пропорціональнымъ, впрочемъ, улучшеніемъ и
качествъ ея, разные способы пересниманія—чрезъ стекло, перевод-
ную бумагу или далее чрезъ обычную бумагу, съ незамыслова-
тыми общеизвѣстными пріемами пересниманія. Получается и скоро,
и чисто, и
точно. Но зато педагогическая польза отъ такой работы
падаетъ до того, что возникаетъ вопросъ: стоитъ ли тратить время
на нее? Неудивительно, что многіе преподаватели не видятъ осо-
бенной надобности въ непремѣнномъ вычерчиваніи учащимися та-
кихъ картъ и предоставляютъ дѣлать это желающимъ. Такимъ
образомъ черченіе картъ, это столь важное для географіи дидакти-
ческое пособіе, фактически совершенно теряетъ для школы свое
значеніе, вслѣдствіе неправильнаго способа его примѣненія.
Черченіе
картъ только при томъ условіи можетъ быть дѣй-
ствительно полезнымъ дидактическимъ пособіемъ, если оно произво-
дится одновременно съ изученіемъ данныхъ мѣстностей и если оно
будетъ самостоятельнымъ сознательнымъ вычерчиваніемъ, а не
механическимъ копированіемъ.
Важность послѣдняго условія очевидна: механическое копиро-
ваніе, безъ участія сознательной активности, имѣетъ такую же ди-
дактическую дѣну, какъ и механическое заучиваніе, механиче-
ское чтеніе и т. п.: все это лишь
какъ-бы скользитъ по нашему
сознанію, не оставляя въ нашей душѣ никакихъ почти слѣдовъ.
Нужно, чтобы вниманіе учащагося было постоянно удерживаемо на
производимой работѣ, слѣдило за нею, дѣлало возможнымъ сознатель-
ное интеллектуальное переживаніе учащимся всѣхъ моментовъ ра-
боты, чтобы черезъ это и зрительныя воспріятія и мускульныя ощу-
щенія отъ движенія руки обращались на усиленіе интенсивности
все той же внутренней работы учащагося.
Но еще важнѣе первое условіе—чтобы вычерчиваніе
картъ
производилось одновременно съ изученіемъ данной мѣстности, т. е.,
чтобы учащійся читалъ данное ему для изученія и въ то же вре-
мя наносилъ на географическій чертежъ изучаемые пункты, а слѣ-
довательно также — чтобы и преподаватель, объясняя, напримѣръ,
урокъ, не на готовой только картѣ отмѣчалъ географическіе пункты
81
и другія географическія данныя (горы, рѣки, моря и проч.), а
также показывалъ все это на исполняемомъ имъ примѣрномъ для
учениковъ чертежѣ на классной доскѣ. При условіи такой одновре-
менности вычерчиванія карты и изученія того, что къ данному
предмету имѣетъ отношеніе, устанавливается прочная ассоціація
между изучаемымъ учебнымъ матеріаломъ и между топографиче-
скими его сторонами; вышеупомянутый моментъ активности геогра-
фическаго вычерчиванія
также обращается на укрѣпленіе тѣхъ же
ассоціацій.
Здѣсь, такимъ образомъ, выполняется первая и важнѣйшая
задача примѣненія наглядныхъ учебныхъ пособій, о которой было
упомянуто выше, а съ нею достигается и другая задача: чтобы
въ конкретныхъ элементахъ изучаемаго установить мнемоническіе
пункты для облегченія припоминанія. Такое мнемоническое значе-
ніе и будутъ имѣть разные пункты и стороны географическаго
чертежа, около котораго будутъ ассоціироваться разныя сообщаемыя
учащемуся
свѣдѣнія: по нимъ, при ихъ воспроизведеніи, будетъ
воспроизводиться съ ихъ образомъ и все ассоціированное съ ними
учебное содержаніе.
При этомъ градусная сѣть не имѣетъ почти никакого зна-
ченія и затруднять ею учащихся нѣтъ никакой надобности, кромѣ
развѣ тѣхъ спеціальныхъ случаевъ, когда къ градусамъ широты и
долготы будетъ сводиться и самое существо преподаваемаго содер-
жанія. Географическіе чертежи слѣдуетъ дѣлать отъ руки, прибли-
зительно, не придавая значенія разнымъ ихъ
частностямъ. Такіе
чертежи не затруднитъ ни преподавателя при объясненіяхъ урока,
чтобы производить ихъ на классной доскѣ, ни учениковъ, чтобы на-
броски ихъ занести въ ихъ географическія тетради по мѣрѣ про-
хожденія предмета, или чтобы, при отвѣтѣ урока, сдѣлать ихъ,
если бы потребовалось, на классной доскѣ, въ дополненіе къ геогра-
фическимъ картамъ, пользованіе которыми и значеніе которыхъ
чрезъ это нисколько не умаляются.
Съ такимъ примѣненіемъ черченія картъ мнѣ не приходилось
встрѣчаться
въ духовныхъ училищахъ, равно какъ и въ женскихъ
училищахъ. Между тѣмъ, дидактическая польза этого учебнаго пріема
едва ли можетъ подлежать сомнѣнію, такъ какъ въ обоснованіе
сказаннаго свидѣтельствуютъ очевидныя психологическія данныя,
82
которыя можно было бы подтвердить и разными опытными наблю-
деніями изъ учебной практики.
Довольно обычный также недостатокъ преподаванія—это не-
достатокъ жизненности и современности его. Учебники по гео-
графіи нерѣдко заключаютъ въ себѣ устарѣвшія данныя о положе-
ніи странъ, государствъ и о разныхъ сторонахъ общественной жиз-
ни. Къ этому присоединяется нерѣдко еще и то, что преподаватели
также не слѣдятъ за измѣненіями въ жизни государствъ,
вслѣдствіе
чего приходится иногда слышать въ отвѣтахъ учениковъ по геогра-
фіи совершенно устарѣвшія свѣдѣнія. Конечно, чтобы слѣдить за
жизнію народовъ, требуется со стороны преподавателя нѣкоторый
трудъ. Но это—обязанность преподавателя, какъ обязанностью для
него является и вообще изученіе современной жизни государствъ и
особенностей природы ихъ странъ, прежде же всего — своего оте-
чества. Только при этомъ условіи рѣчь преподавателя будетъ вы-
ходить за предѣлы учебника, оживлять
и осмысливать для учащихся
его страницы, будить умъ ихъ и заинтересовывать ихъ изученіемъ
предмета. Въ тѣхъ случаяхъ, когда преподаватель такъ или иначе
проявлялъ въ объясненіяхъ учащимся знакомство свое съ бытомъ
изучаемаго народа, природою страны и говорилъ живымъ языкомъ
свѣжихъ данныхъ, классъ, какъ приходилось мнѣ наблюдать, весь
становился вниманіемъ. И совершенно обратное съ нимъ бываетъ,
когда идетъ на урокѣ лишь повтореніе словъ учебника.
Было бы, конечно, ошибкою со
стороны преподавателя, если
бы онъ, освѣщая и оживляя страницы учебника дополнительными
къ нимъ свѣдѣніями, сталъ потомъ все это непремѣнно требовать
отъ учениковъ, чтобы тѣ дали ему отчетъ въ каждомъ новомъ
штрихѣ, сдѣланномъ дополнительно къ учебнику. Это—вѣрный спо-
собъ убить интересъ учащихся и обратить дополнительныя сообще-
нія въ томительныя прибавки къ тому же учебнику: уже одно на-
пряженіе вниманія ученика, что изъ объясняемаго преподавателемъ
имѣется въ учебникѣ и
чего нѣтъ, чтобы успѣть сдѣлать замѣтки о
вносимыхъ дополненіяхъ, для отвѣта въ слѣдующій урокъ, больше
всего заставляетъ ученика думать въ это время и желать, какъ-бы
поменьше преподаватель дѣлалъ прибавокъ къ учебной книжкѣ. Нужно
входить въ положеніе учащагося и имѣть въ виду, что дополни-
тельно сообщаемое преподавателемъ назначается не для увеличенія
83
объема учебной книжки, а для болѣе отчетливаго и сознатель-
наго усвоенія сказаннаго въ учебникѣ. Поэтому нужно умѣть найти
такой исходъ, чтобы, съ одной стороны, дополнительно сообщаемыя
свѣдѣнія не проходили мимо сознанія и памяти учащихся, а съ
другой—чтобы они и не отягощали учениковъ новою работою.
Въ связи съ углубленіемъ мысли учащихся въ географическое
изученіе данныхъ мѣстностей, преподаватель долженъ напоминать
учащимся и все то,
что было уже учено ими о тѣхъ же геогра-
фическихъ пунктахъ по другимъ предметамъ, напримѣръ, по св.
исторіи, по исторіи церковной, гражданской. Обычно преподаватели
обходятъ эти свѣдѣнія молчаніемъ, какъ не относящіяся прямо къ
ихъ предмету. Но не слѣдуетъ опускать изъ вида, что есть разные
преподаватели, есть разные предметы и разныя учебныя книжки;
но ученикъ, слушающій преподавателей и учащійся по разнымъ
предметамъ и учебникамъ, все одинъ и тотъ же; поэтому все это
разнообразное
нужно сводить къ возможному единству. Само собою
понятно, что отъ преподавателя географіи не можетъ требоваться,
чтобы онъ повторялъ съ учениками пройденное, напримѣръ, по исто-
ріи священной, церковной или гражданской; въ этомъ и нужды не
имѣется. Но онъ будетъ лишь содѣйствовать отчетливости географи-
ческихъ же познаній учащихся, если будетъ съ изученіемъ геогра-
фіи странъ, государствъ, городовъ и проч. соединять въ удобной
для его прямыхъ цѣлей формѣ напоминаніе извѣстныхъ уча-
щимся
историческихъ или иныхъ свѣдѣній. Въ связи съ другими
разъяснительными сообщеніями и другими дидактическими пріе-
мами, такія напоминанія также не лишены будутъ дидактическаго
значенія.
3. Природовѣдѣніе введено въ курсъ духовныхъ училищъ съ
1906 года, и въ первое время постановка преподаванія этого пред-
мета не была и не могла быть удовлетворительной, какъ по отсут-
ствію въ училищахъ соотвѣтственныхъ учебныхъ пособій, такъ и
по естественной неподготовленности преподавательскаго
персонала
къ этому предмету, совершенно не преподававшемуся ранѣе въ
духовной школѣ. Теперь положеніе этого предмета существенно измѣ-
нилось къ лучшему, такъ какъ уже два раза, въ 1909 и 1910 гг.,
были устраиваемы въ С.-Петербургѣ Учебнымъ Комитетомъ курсы
для преподавателей духовныхъ училищъ по этому предмету. Такимъ
84
образомъ, преподавательскій персоналъ нынѣ достаточно подготов-
ленъ къ преподаванію природовѣдѣнія въ духовныхъ училищахъ.
Съ тѣмъ вмѣстѣ, многія училища успѣли уже обзавестись болѣе или
менѣе необходимыми пособіями для этого предмета.
Мои наблюденія относятся еще къ первому періоду въ пре-
подаваніи природовѣдѣнія въ духовныхъ училищахъ и только не-
много соприкасаются со вторымъ періодомъ. Поэтому они не выра-
жали бы собою наличнаго, т.
е. именно въ настоящее время, состоя-
нія преподаванія этого предмета, и съ этой точки зрѣнія были бы
въ значительной мѣрѣ излишними. Вслѣдствіе этого я сдѣлаю отно-
сительно этого предмета лишь нѣсколько замѣчаній хотя и изъ прош-
лаго, но все же еще слишкомъ близкаго къ настоящему, періода въ
постановкѣ этого предмета въ духовныхъ училищахъ, такъ какъ это
близкое прошлое еще можетъ такъ или иначе сказываться и на
дальнѣйшей постановкѣ преподаванія природовѣдѣнія въ духовной
школѣ.
Природовѣдѣніе,
по существу своему, еще болѣе, чѣмъ геогра-
фія, является предметомъ, въ преподаваніи котораго нельзя обой-
тись словесными разсужденіями, и имѣется неизбѣжная необходи-
мость въ конкретномъ и наглядномъ выясненіи изучаемаго содер-
жанія. Но привычная склонность преподавателя къ отвлеченному
разсужденію и къ обращенію мысли въ сферѣ понятій, какъ при-
ходилось наблюдать, весьма нерѣдко находила для себя выраженіе
и въ пріемахъ преподаванія этого предмета, состоявшихъ лишь
въ передачѣ
текста учебной книжки своими словами. Иногда слова
эти были гладкія, хорошія, даже точныя и вѣрныя, но все же были
слова, расчитанныя лишь на память ученика и воображеніе, безъ
конкретнаго представленія ихъ содержанія въ наглядныхъ посо-
біяхъ, въ соотвѣтственныхъ опытахъ, въ тѣхъ или иныхъ предме-
тахъ и фактическихъ данныхъ. Неизбѣжнымъ результатомъ этого
было, что и ученики обогащались лишь словами, пріобрѣтали новый
запасъ выраженій и научались нѣкоторой оборотливости рѣчи въ
новой
области знанія.
Въ бесѣдахъ по этому предмету приходилось слышать и оправ-
дательныя разъясненія такихъ методическихъ пріемовъ преподава-
нія. Иногда преподавателямъ казалось, что ученикамъ и безъ обра-
щенія къ какимъ-либо пособіямъ и опытамъ достаточно понятно то,
85
что имъ сообщается въ объясненіяхъ наставника. И онъ поэтому,
напримѣръ, на урокѣ объ известнякѣ, мраморѣ, гипсѣ, находилъ
достаточнымъ назвать эти и подобные имъ предметы, считая ихъ
всѣмъ извѣстными, даже настолько, что не представляется и на-
добности тратить время на пріисканіе и показываніе ихъ учащимся.
Между тѣмъ въ дѣйствительности это далеко не такъ, и ученикъ
можетъ конкретно и ясно не знать ничего или почти ничего объ
этихъ простыхъ
вещахъ,—для него даже негашеная и гашеная
известь, которую хорошо знаютъ рабочіе, можетъ оказаться неиз-
вѣстною. Подыскать и принести въ классъ эти предметы и наглядно
ясно провести подобный урокъ не представляло бы для преподава-
теля никакихъ особыхъ затрудненій,—но онъ находилъ это лиш-
нимъ и ненужнымъ. Въ другихъ случаяхъ шла рѣчь объ углеки-
сломъ газѣ, кислородѣ, воздухѣ, нагрѣваніи и кипяченіи воды,—и
опять все тѣ же слова и описанія, иногда при помощи рисунковъ
въ учебной
книжкѣ, относящихся къ приборамъ и опытамъ, связан-
нымъ съ демонстрированіемъ всѣхъ этихъ вопросовъ. Иной разъ
при подробномъ описаніи частей человѣческаго тѣла ученикъ не
зналъ, гдѣ у него печень, легкія, даже сердце, потому что все учи-
лось имъ по книжкѣ, и даже рисунки, имѣвшіеся въ учебникѣ,
не переносились на живое человѣческое тѣло и не примѣнялись
къ нему.
Приходилось затѣмъ слышать, что обращеніе къ нагляднымъ
пособіямъ вызываетъ значительную «оттяжку времени»—и у препо-
давателя
и у учениковъ, и преподаватель поэтому, говоря о рудѣ,
ртути и проч. на урокѣ, не находилъ цѣлесообразнымъ замедлять
свои объясненія показываніемъ ученикамъ этихъ предметовъ.
Здѣсь—коренное недоразумѣніе: точно будто имѣетъ какую-нибудь
дидактическую цѣнность—для преподавателя скоро сказать слова, а
для ученика—скоро замѣтить эти слова памятью и повторить ихъ
для отвѣта преподавателю и полученія балла! Если бы даже и
дѣйствительно на демонстрированіе сообщаемыхъ свѣдѣній по при-
родовѣдѣнію
требовались время и трудъ какъ со стороны преподава-
теля, такъ и со стороны учениковъ, и въ такомъ случаѣ «оттяжка
времени» для этого и трудъ, съ нею соединенный, являлись бы
дѣдомъ дидактической необходимости. Но, при правильномъ веденіи
дѣла, едва ли такое преподаваніе потребуетъ больше времени со
86
стороны преподавателя для объясненій ученикамъ и болѣе труда
со стороны учениковъ для усвоенія преподаннаго, чѣмъ сколько тре-
буется того и другого при книжномъ усвоеніи указываемыхъ про-
граммами свѣдѣній, такъ какъ отвлеченно-преподанное и отвлеченно-
усвоенное нелегко запоминается и недолго помнится, не говоря о
малополезности, а иногда и прямомъ вредѣ отъ такой умственной
работы для учащихся.
Приходилось также слышать, что въ видахъ той
же экономіи
времени, а отчасти будто бы и въ видахъ большей ясности для
учащихся, удобнѣе демонстрировать преподаваемое по прохожденіи
извѣстнаго отдѣла. Преподавателю казалось, что каменный уголь,
желѣзо, сталь, олово, свинецъ, аллюминій и проч., о чемъ онъ велъ съ
учениками рѣчь, удобнѣе и цѣлесообразнѣе показать ученикамъ за-
разъ, по окончаніи изученія болѣе иди менѣе однороднаго въ дан-
номъ отдѣлѣ учебной книжки содержанія. И здѣсь, въ такомъ со-
ображеніи, имѣется рядъ
дидактическихъ недоразумѣній: конкрет-
ное поясненіе вновь сообщаемаго преподавателемъ учебнаго содер-
жанія именно и важно въ моментъ самаго сообщенія, чтобы уче-
никъ воспринималъ не слова и фразы, а—конкретные образы реаль-
ной дѣйствительности. Это въ различныхъ только формахъ имѣетъ
значеніе въ отношеніи ко всѣмъ предметамъ преподаванія; но осо-
бенно это важно въ такомъ конкретномъ и реальномъ предметѣ, какъ
природовѣдѣніе. Только по нуждѣ и не безъ дидактическаго ущерба
можно
было бы допускать въ тѣхъ или другихъ отдѣльныхъ слу-
чаяхъ, чтобы демонстрированіе преподаваемаго происходило не при
первоначальныхъ объясненіяхъ преподавателя, а когда-либо послѣ
того, какъ, напримѣръ, объясненное преподавателемъ изъ ботаники
въ зимнее время можетъ восполняться, въ тѣхъ или иныхъ частно-
стяхъ, весною, когда природа въ обиліи представитъ преподавателю
разнообразные образцы наглядныхъ пособій. Но это—случаи исклю-
чительные; количество даже и ихъ должно быть всѣми
способами
сокращаемо. Общимъ же дидактическимъ правиломъ неизбѣжно
останется требованіе, что демонстрированіе преподаваемаго содер-
жанія на конкретныхъ данныхъ должно происходить одновременно
съ объясненіями преподавателя.
Нельзя не отмѣтить здѣсь весьма существеннаго для учебной
практики вопроса объ отношеніи и преподавателя и учениковъ къ
87
коллекціямъ предметовъ изъ курса природовѣдѣнія. Нерѣдко смотрятъ
на это такъ, что коллекцію минераловъ, растеній, насѣкомыхъ и
проч. нужно непременно выписать изъ магазина, а если она не
выписана и не выслана въ училище, то это вполнѣ оправдываетъ
преподавателя, обходящагося въ преподаваніи безъ всякихъ нагляд-
ныхъ пособій. Несомнѣнно, многія части учебныхъ коллекцій та-
ковы, что ихъ безъ особыхъ затрудненій можно имѣть только пу-
темъ выписки
изъ магазиновъ. Но вѣрно также и то, что значи-
тельная часть такихъ предметовъ легко можетъ быть собрана пре-
подавателями и учениками у себя на мѣстѣ. Личное участіе препо-
давателя и учениковъ въ составленіи такихъ коллекцій придаетъ
учебному дѣлу живость и возбуждаетъ въ учащихся интересъ къ
изучаемому: эти дидактическія стороны въ учебной практикѣ даже
цѣннѣе и важнѣе полноты и законченности выписываемыхъ чрезъ
магазины коллекцій. Поэтому весьма желательно, чтобы преподава-
тели
поощряли учащихся къ коллекціонированію образцовъ минера-
ловъ, насѣкомыхъ, растеній и т. п. При содѣйствіи учениковъ
можно было бы составлять, восполнять и подновлять коллекціи, на-
значаемыя для нуждъ класснаго преподаванія.
Съ тѣмъ вмѣстѣ преподаватель долженъ пользоваться всякимъ
случаемъ, чтобы не только на образцахъ, показываемыхъ въ
классѣ, разъяснять преподаваемое, но и въ самой природѣ, во вре-
мя экскурсій или хотя въ саду, огородѣ, указывать то, что онъ
объяснялъ на
урокахъ въ классѣ. Только такое предметно-получае-
мое знаніе имѣетъ надлежащую цѣнность въ изученіи природовѣ-
дѣнія: природу нужно изучать въ природѣ же, а не въ книжкѣ.
VII.
Преподаваніе древнихъ языковъ въ духовныхъ училищахъ,
какъ и вообще въ духовной школѣ, встрѣчается съ рядомъ суще-
ственныхъ затрудненій не методическаго только характера, но и
общаго, принципіальнаго: ставится и вызываетъ разнорѣчивыя
сужденія вопросъ о самомъ правѣ существованія древнихъ языковъ
среди
предметовъ школьнаго обученія. Вопросъ этотъ возникъ въ
отношеніи къ гражданской школѣ, а не духовной, и собственно съ ея
88
учебнымъ строемъ имѣетъ онъ прямую связь; но споры и толки по
нему отразились п продолжаютъ отражаться также и на положеніи
древнихъ языковъ въ духовной школѣ.
Споры о классицизмъ, какъ основѣ средне-школьнаго образова-
нія, существуютъ на Западѣ, родинѣ классицизма, почти съ тѣхъ
поръ, какъ древніе языки въ средніе вѣка вошли въ составъ учеб-
наго курса школы. А у насъ въ Россіи они обостренно идутъ осо-
бенно съ того времени, какъ въ 70-хъ
годахъ прошлаго столѣтія,
при реформѣ гимназій, классическіе языки признаны были суще-
ственнѣйшею основою гимназическаго курса.
Мнѣ приходилось высказываться по этому предмету и въ пер-
вую половину споровъ у насъ о классицизмѣ—въ 80-хъ годахъ, въ
одномъ изъ періодическихъ изданій того времени и во вторую
половину этихъ споровъ—лѣтъ 10 тому назадъ, въ особо изданной
мною работѣ по этому предмету 2).
Моимъ мнѣніемъ всегда было, что въ этомъ вопросѣ имѣется
много недоразумѣній,
корни которыхъ лежатъ въ далекомъ прош-
ломъ средневѣкового строя школы, и много крайностей въ сужде-
ніяхъ и дѣйствіяхъ защитниковъ и противниковъ классицизма бли-
жайшаго къ намъ и нашего времени.
Уже при самомъ возрожденіи античнаго гуманизма въ средніе
вѣка, отразившемся и на учебномъ строѣ тогдашней школы, подъ
воздѣйствіемъ разныхъ историческихъ вліяній произошла замѣна
правильно намѣченнаго-было для школы (въ самой идеѣ гуманизма)
гуманистическаго начала—изученія духовно-разумной
природы чело-
вѣка—классическимъ языковѣдѣніемъ: думали чрезъ изученіе про-
изведеній классическаго міра оживить и поднять упавшее къ тому
времени изученіе человѣческаго духа, а вмѣсто того фактически
упрочились въ школѣ только грамматики древнихъ языковъ и
прежде всего латинскаго языка, владѣніе которымъ, по близости его
къ романскимъ языкамъ, являлось тогда необходимостью для ка-
ждаго образованнаго человѣка. Это отклоненіе отъ нормальнаго пути
*) Церк.-Общ. Вѣст. за 1880 и
1881 г.г., гдѣ было помѣщено мною
20 статей, подъ заглавіемъ: «Что слѣдовало бы поставить въ основу обще-
образовательной системы обученія» У
2) Объ основахъ и организаціи средней школы. С.*Петербургъ, 1900 г.
89
сознавалось тогда же, и еще въ то время любителей классическаго
языкознанія называли verbales — «словесниками», «буквоѣдами»1).
Учебная жизнь школы однако шла въ намѣтившемся для нея
направленіи, отклоняясь мало-по-малу все болѣе и болѣе въ сторону
отъ основной сущности гуманистическаго начала, и классическое
языкознаніе, съ развитіемъ въ немъ филологическаго анализа и
ростомъ наукъ по разнымъ областямъ человѣческаго вѣдѣнія, обра-
тилось въ
школьную работу, требовавшую для себя большихъ тру-
довъ и дававшую весьма мало ощутительныхъ педагогическихъ
результатовъ. Постепенно сложилось въ оправданіе классицизма
мнѣніе, что изученіе древнихъ языковъ есть наилучшее и ничѣмъ
инымъ незамѣнимое средство для достиженія цѣлей правильнаго
развитія ума учащихся и что эта его особенность дѣлаетъ необхо-
димымъ поставленіе его въ основѣ системы школьнаго обученія.
Принятый въ смыслѣ основы умственнаго развитія, достиженіе ко-
тораго
составляетъ естественную задачу школы, классицизмъ неиз-
бѣжно потребовалъ для себя и соотвѣтственнаго количества учебнаго
времени, занявъ собою наибольшее число учебныхъ часовъ, не безъ
ущерба для другихъ предметовъ школы.
Такое положеніе классицизма въ школѣ вызывало протесты со
стороны противниковъ классической образовательной системы, выдви-
гавшихъ значеніе реальныхъ наукъ и ставившихъ въ школѣ, вмѣ-
сто древнихъ языковъ, предметы реальнаго знанія, въ виду ихъ
важнаго практическаго
приложенія. Споры эти завершились у насъ
въ Россіи къ 1902 году почти полнымъ устраненіемъ древнихъ язы-
ковъ, въ особенности греческаго, изъ общеобразовательной системы
обученія, и послѣднее поколѣніе, проходящее чрезъ гражданскую
общеобразовательную школу, не знаетъ уже классицизма...
Къ лучшему ли? Какъ обычно бываетъ въ столкновеніи про-
тивоположныхъ теченій мысли и въ вызываемыхъ этимъ спорахъ
однихъ съ другими, противостоящія стороны не сохраняютъ тре-
буемой существомъ
дѣла умѣренности сужденія и впадаютъ въ край-
ности. То же произошло и въ данномъ случаѣ.
Трудно было бы теперь основательно защищать унаслѣдован-
ное, вслѣдъ за Западомъ, и нашею школою въ недавнее еще время
1) Тамъ же, стр. 94.
90
положеніе, что классицизмъ долженъ быть именно основоначаломъ
всей общеобразовательной системы, для котораго, по его образова-
тельной важности, мало, напримѣръ, въ гимназіяхъ и 42 уро-
ковъ въ недѣлю, назначенныхъ на латинскій языкъ уставомъ гим-
назій 1871 года 1): такому утвержденію можно было бы съ доста-
точною убѣдительностію противопоставить образовательное значеніе
другихъ учебныхъ предметовъ и во главѣ ихъ родного языка. Но
было бы
въ то же время лишь увлеченіемъ говорить и доказывать,
что классическіе языки утратили теперь всякое образовательное зна-
ченіе и потому должны быть удалены изъ школы, какъ излишніе
для вея предметы, напрасно обременяющіе память учащихся.
«Перемѣнилось многое въ отношеніяхъ новѣйшей культуры
къ культурѣ древней, однако не все же,—выражусь словами, уже
сказанными мною ранѣе по этому предмету: новѣйшая культура
выросла не на пепелищѣ древней .культуры, уничтоживъ ее, какъ
никуда
негодную, а на почвѣ, обработанной и удобренной произво-
дительнымъ геніемъ античнаго міра, до сихъ поръ все еще продол-
жая во многомъ питаться соками взростившей ее почвы. Поэтому
древніе языки и греко-римская письменность не есть архивный
хламъ, утратившій всякое современное значеніе; они и доселѣ про-
должаютъ имѣть существеннѣйшее значеніе въ развитіи научнаго
знанія въ различныхъ областяхъ человѣческаго вѣдѣнія. А потому
въ школѣ они должны остаться—не въ высшей только, какъ
пред-
метъ спеціально-филологическаго изученія, но и въ средней, какъ
существенно-важный элементъ научнаго знанія, — однако должны
остаться не въ смыслѣ самой основы школьной образовательной си-
стемы, потому что греко-римская письменность не является теперь
въ положеніи единственной представительницы гуманистическаго
элемента въ культурѣ, но въ смыслѣ лишь необходимыхъ предметовъ
средне-школьнаго обученія, и притомъ должны остаться оба древніе
языки—и латинскій и греческій» 2).
Такимъ
образомъ весь вопросъ о классицизмѣ заключительно
долженъ былъ бы сводиться лишь къ перемѣщенію центра школьной
общеобразовательной системы съ древнихъ языковъ на другіе пред-
1) Скворцовъ, Н. Недуги нашего учебнаго дѣла, стр. 80. Ср. Объ основ.
и организ. средней школы, стр. 22.
2) Объ основахъ и организаціи средней школы, стр. 112.
91
меты, полнѣе, прямѣе и правильнѣе проводящіе гуманистическое
начало изученія духовно-разумной природы человѣка, чѣмъ это
осуществимо чрезъ классическіе языки и даже чрезъ классическую
литературу вообще. Требовалось бы древніе языки, сдѣлавъ ихъ
обычными учебными предметами, ввести въ соотвѣтственныя тому
учебныя рамки, не въ ущербъ и кругу предметовъ реальнаго зна-
нія; а вмѣсто этого ихъ совершенно исключили изъ школы. Край-
ность эта, повидимому,
въ нѣкоторой мѣрѣ уже сознана обществен-
нымъ мнѣніемъ, и теперь начинаютъ думать о возстановленіи клас-
сицизма хотя въ части его прежнихъ правъ. Но фактъ потрясенія
внутренней жизни школы все же произошелъ, и считаться съ нимъ
придется...
Все это произошло не въ духовной школѣ и ея прямо не каса-
лось, такъ какъ классическіе языки не занимали въ духовной школѣ
положенія основы учебной системы: учебный строй духовной школы
близко подходилъ къ нормальному типу общеобразовательной
шко-
лы, съ правильно поставленнымъ гуманистическимъ или гуманитар-
нымъ 1) началомъ ея, такъ какъ заключалъ въ себѣ не только
изученіе законовъ слова—въ преподаваніи русскаго языка съ сло-
1) Ф. Н. Бѣлявскій въ своей книгѣ <О реформѣ духовной школы >
(С.-Петербургъ, 1907 г., ч. I—И), приведя изъ моей книги «Объ основахъ
и организаціи средней школы» одно мѣсто (стр. 104), гдѣ я говорю, что
«школа должна быть гуманистическою или гуманитарною въ томъ смыслѣ,
что въ ея основаніи
должно лежать изученіе духовно - разумной природы
человѣка и духовно - разумной жизни его>, находитъ между названіями
школы «гуманистической» и «гуманитарной» отношеніе не сходства какого-
либо, а ^глубокаго противоположенія* (ч. Н. стр. 14), при чемъ терминъ
«гуманистическій» онъ понимаетъ въ смыслѣ производнаго понятія отъ на-
именованія «гуманизмъ», усвоеннаго культурному направленію среднихъ
вѣковъ, а «гуманитарный» принимаетъ въ смыслѣ философско - этическаго
термина. «Съ гуманизмомъ,
какъ одностороннимъ, больнымъ культурнымъ
теченіемъ мы должны бороться, говоритъ онъ, и потому взамѣнъ существую-
щаго и предполагаемаго гуманистическаго типа должны настаивать на гума-
нитарномъ» (тамъ же). Такое разграниченіе терминовъ «гуманистическій» и
«гуманитарный» покоится на субъективной почвѣ: для этого нѣтъ опредѣ-
ленныхъ основаній ни историческихъ, ни филологическихъ, ни, наконецъ,
установленныхъ принятымъ словоупотребленіемъ. Терминъ «гуманистическій»,
въ приложеніи
къ названію школьно-учебной системы, нельзя производить
только отъ наименованія средневѣковаго культурно-духовнаго направленія—
«гуманизмъ», «гуманисты»: иначе всегда можно было бы замѣнить его
равнозначущимъ (при такомъ пониманіи) другимъ выраженіемъ—«средне-
вѣковая» школьная система; но въ такомъ пониманіи гуманистическая
система образованія никогда не защищалась. Предметомъ споровъ и обсу-
жденія была гуманистическая система, понимаемая въ нормативномъ значе-
92
весностію и исторіей литературы, но также и изученіе законовъ
мысли и духа—въ логикѣ, психологіи и философіи. Но, тѣмъ не
менѣе, по естественному общенію однихъ учебныхъ заведеній съ
другими и взаимному ихъ вліянію, споры о классицизмѣ и полез-
ности преподаванія въ школѣ древнихъ“ языковъ, такъ неблаго-
пріятно закончившіеся у насъ для классическихъ языковъ, съ со-
вершеннымъ почти устраненіемъ ихъ изъ курса средней школы за
громко провозглашенною
ненужностію ихъ, не могли не отразиться
на духовной школѣ и на положеніи въ ней древнихъ языковъ: усер-
діе учащихся къ изученію этихъ языковъ понизилось до крайности,
и успѣхи учениковъ ослабѣли до наименьшей степени. «Всѣ гово-
рятъ,—разсуждали вслѣдъ за другими воспитанники духовной
школы,—что древніе языки ни для кого и ни для чего не нужны,—
только напрасно губятъ учебное время и силы учащихся: для чего
же ими и заниматься?!»
Еще въ духовныхъ училищахъ, за маловозрастностію
учащихся,
въ такія разсужденія ученики вступали относительно мало, вслѣд-
ствіе чего болѣе или менѣе учились по языкамъ, въ виду требо-
ваній со стороны преподавателей. А въ семинаріяхъ, гдѣ мысль
ніи этого слова, давшемъ смыслъ и жизнь самому средневѣковому гума-
низму. А въ такомъ случаѣ терминъ «гуманистическій> придется производить
отъ словъ homo, humanus, bumanitas. И далѣе: нѣтъ основанія только тер-
минъ «гуманитарный» понимать съ этическимъ оттѣнкомъ значенія его, для
чего
нѣтъ данныхъ ни въ филологическомъ значеніи этого слова, производи-
маго отъ humanitas, ни въ обычномъ словоупотребленія Еще Авлъ Геллій
во П в. опредѣлилъ значеніе humanitas, какъ обладаніе благородными
искусствами, или иначе—идейнымъ знаніемъ, отличающимъ человѣка отъ
неразумныхъ существъ земли и дѣлающимъ его vel maxime humanissmius, или
человѣкомъ въ наивысшемъ значеніи этого слова (см. Объ основахъ и организ.
средн. школы, стр. 89). Терминъ «гуманитарный», сообразно съ этимъ, и доселѣ
удерживаетъ
за собою какъ этическое значеніе, такъ не менѣе того—и
интеллектуально-духовное значеніе. Равно и терминъ «гуманистическій» по-
нимается не только съ интеллектуальнымъ, но и съ этическимъ значеніемъ,
какъ efrsc/Mmmane Bildung (Paulsen), или даже «какъ личное усовершен-
ствованіе», такъ какъ «истинный смыслъ гуманизма заключается въ хри-
стіанскомъ воззрѣніи на человѣка» (Скворцовъ). Съ устраненіемъ изъ тер-
миновъ «гуманистическій» и «гуманитарный», въ дѣйствительности довольно
неопредѣленныхъ
(см. Объ осн. и орган, сред, шк., стр. 81—88), произволь-
наго столь точнаго ихъ разграниченія, сами собою падаютъ и другія соеди-
няющіяся съ этимъ недоразумѣнія, такъ какъ само собою понятно, что въ
христіанской школѣ долженъ быть проводимъ христианизированный гума-
нистически принципъ, а не въ томъ характерѣ, какой былъ приданъ ему
античнымъ пониманіемъ, или какой могъ бы быть данъ ему вообще съ анти-
религіозной точки зрѣнія.
93
ученика, сообразно степени его развитія, имѣетъ больше матеріала
для критическаго разсужденія, все равно—хотя бы и неоснователь-
наго, совсѣмъ почти перестали заниматься греческимъ и латин-
скимъ языками. На уроки, конечно, ученики являлись, данное для
класснаго приготовленія такъ или иначе, нерѣдко—по очереди, под-
готовляли, чтобы получить баллъ и сдать экзаменъ; но въ суще-
ствѣ дѣла большею частію лишь постепенно забывали то, что знали
въ
училищахъ, и о случаяхъ относительно лучшаго знанія учени-
ками древнихъ языковъ, кромѣ, разумѣется, исключеній изъ общаго
правила, можно было лишь сказать, что ученикъ, дошедши до
III—IV класса семинаріи, еще не забылъ того, что училъ въ училищѣ.
Между тѣмъ, не смотря на обнаруженную духовною школою
такую воспріимчивость къ спорамъ о классицизмѣ, между свѣт-
скою и духовною школою имѣется принципіальная существенная
разница въ вопросѣ объ отношеніи къ древнимъ языкамъ. Для
свѣтской
школы классическіе языки имѣютъ извѣстную важность
лишь по значенію древней античной культуры для культуры позд-
нѣйшаго и, въ частности, нашего времени. И если бы предположить,
что античная культура утратила всякое значеніе для современной
культуры, то возникнетъ небезосновательный вопросъ: для чего же
быть въ общеобразовательной школѣ древнимъ языкамъ? Пока
чего, какъ уже сказано, мы такъ еще тѣсно связаны съ куль-
турою древняго міра, существенно отражающеюся не только на
культурномъ
строѣ всей современной жизни, но и въ частности на
состояніи наукъ, искусствъ, литературы, — что далеко еще не на-
стало время, когда можно было бы сказать, что языки латинскій
и греческій должны стать лишь предметомъ спеціальнаго изученія
въ высшей школѣ, какъ изучаются теперь, напримѣръ, языки сан-
скритскій, арамейскій, древне-египетскій, древне арабскій и проч.
и разные древніе памятники, имѣющіе лишь историческую цѣн-
ность. Но все же,—можно предполагать,—таксе время, рано ли—
поздно
ли, настанетъ, и тогда дѣйствительно будетъ имѣться на-
добность рѣшить вопросъ о классицизмѣ въ томъ родѣ, какъ у
насъ поспѣшили преждевременно рѣшить его въ 1902 году.
Въ отношеніи же къ духовной школѣ, назначенной служить
удовлетворенію потребностей Церкви, вопросъ объ отношеніи къ
древнимъ языкамъ имѣетъ совершенно иной характеръ. Можно, если
94
угодно, думать, что наука въ будущемъ, даже во всемъ ея объемѣ,
освободится отъ связи ея съ начатками знаній, унаслѣдованныхъ
человѣчествомъ отъ древняго греко - римскаго міра, и культура
античная станетъ для науки такою же историческою величиною,
какъ культуры Вавилона, Египта, Финикіи и проч. Можно, если
угодно, допустить, что подобно тому, какъ не имѣютъ никакого
отношенія къ древнему міру, напримѣръ, теперь электротехника и
электрохимія,—даже
и математика отыщетъ для себя новыя основы,
иныя, чѣмъ онѣ были у древнихъ математиковъ—Пиѳагора, Евклида,
Архимеда, и иные совершенно пути своего развитія: все это можно
допустить потому, что здѣсь нѣтъ противорѣчія самому существу
науки, которая останется наукой и тогда, когда будутъ констати-
рованы для нея новыя основанія—не такія, какія были ранѣе.
Но нельзя допустить, даже и теоретически, чтобы языкъ
Библіи, языкъ Евангелія, языкъ посланій свв. Апостоловъ, языкъ
свято-отеческой
литературы первыхъ вѣковъ христіанства и періода
вселенскихъ соборовъ потерялъ значеніе для христіанскаго богословія.
Христіанское ученіе не можетъ измѣнить своихъ основъ, какъ
могла бы сдѣлать это, говоря теоретически, всякая наука, отыскавъ
для себя новыя основоначала, болѣе правильныя, чѣмъ какими она
руководилась ранѣе: все существенное, все основное, чѣмъ опредѣ-
ляется христіанство, разъ навсегда сказано въ Св. Писаніи и
ничѣмъ инымъ замѣнено быть не можетъ, потому что это иное
уже
не будетъ христіанствомъ и христіанскимъ ученіемъ, основаннымъ
на Богооткровеніи. Ближайшіе послѣдователи Христа Спасителя были
и самыми вѣрными истолкователями Его ученія: въ нихъ не
только была живая преемственность ученія, преподаннаго Іисусомъ
Христомъ, но на нихъ почивала и особая благодать Божія—исклю-
чительная на непосредственныхъ ученикахъ Спасителя, свв. Апо-
столахъ, и также необычная на ихъ ближайшихъ преемникахъ и
послѣдователяхъ, по высокой святости ихъ жизни
и по обилію благо-
датныхъ даровъ перваго времени христіанства. Весь періодъ все-
ленскихъ соборовъ—высокое по напряженности христіанскаго вѣро-
сознанія и нравосознанія время, представителямъ котораго хри-
стіане послѣдующихъ вѣковъ могутъ лишь подражать, и было бы
только празднословіемъ говорить о возможности чего-либо еще выс-
шаго въ подвигахъ христіанской жизнедѣятельности.
95
Вотъ почему въ то время, какъ о всякой наукѣ можно было
бы сказать, что ея будущее впереди, что ея расцвѣтъ можетъ ока-
заться далеко инымъ, чѣмъ мы можемъ теперь даже гадательно
предполагать,—о христіанскомъ ученіи можно сказать только на-
оборотъ: все существо его—позади переживаемаго нами времени—
въ ученіи Христа Спасителя и свв. Апостоловъ и въ свято-отече-
ской литературѣ того періода жизни христіанства, когда всѣ хри-
стіане составляли
одну вселенскую Церковь, которая только и есть
«столпъ и утвержденіе истины» (1 Тим. 3, 15; Матѳ. 16, 18;
28, 20). Все послѣдующее вѣросознаніе и нравосознаніе христіанское
можетъ развиваться лишь по мѣрѣ полноты уразумѣнія умомъ и
усвоенія сердцемъ и волею этихъ уже данныхъ христіанству основъ
его. И только въ этомъ проникновеніи въ тайны преподаннаго уче-
нія— основаніе, существо и проявленіе христіанскаго прогресса.
Какъ же послѣ этого было бы возможно, что языкъ всѣхъ
этихъ
первоосновъ христіанскаго ученія утратитъ для духовной
школы, изучающей христіанское богословіе, свою важность . и сдѣ-
лается излишнимъ или хотя бы даже—мало нужнымъ? Вотъ по-
чему, что бы ни было въ будущемъ гражданской школы, духовная
школа, не высшая только, но и средняя, неизбѣжно сохранитъ въ
себѣ, доколѣ она существуетъ, изученіе древнихъ языковъ, противъ
которыхъ не безъ очевидныхъ признаковъ излишняго увлеченія,
пока чего, возражаютъ и съ точки зрѣнія нуждъ свѣтской школы.
Въ
этомъ случаѣ отношеніе той и другой школы къ древнимъ язы-
камъ, по существу дѣла, взаимно обратное: что допустимо, хотя
бы и предположительно пока, для одной, то немыслимо, безъ утраты
самаго наименованія своего, для другой.
И въ отношеніи къ сравнительному значенію для школы древ-
нихъ языковъ—латинскаго и греческаго—имѣется здѣсь большое
различіе. Принято, что для свѣтской общеобразовательной школы
важнѣе языкъ латинскій, чѣмъ греческій. Духовная же школа должна
признавать
обратное этому: греческій языкъ для нея важнѣе латин-
скаго, потому что именно онъ есть языкъ Священнаго Писанія и
православно-христіанской свято-отеческой литературы. Латинскій же
языкъ, не имѣя никакого особаго отношенія къ подлинному тексту
Священнаго Писанія, такъ какъ на немъ существуютъ только пере-
воды свв. книгъ,—для православной греко-восточной Церкви имѣетъ
96
второстепенное значеніе и въ отношеніи къ свято-отеческой литера-
турѣ, потому что свято-отеческая литература на латинскомъ языкѣ
сравнительно невелика въ той части ея, которая признается право-
славною Церковію, хотя, конечно, не лишено важности знаніе право-
славными богословами и латинскихъ произведеній, принимаемыхъ
разнствующею съ православіемъ римско-католическою церковію.
Неизлишне, впрочемъ, замѣтить, что и для русской свѣтской
школы
греческій языкъ важнѣе латинскаго. Только по подражанію
Западу у насъ принято за нѣчто достовѣрное, что если выбирать
между древними языками, то выборъ можетъ быть сдѣланъ лишь
въ пользу латинскаго языка,—и если на Западѣ есть школы съ
однимъ латинскимъ языкомъ, то какъ же не быть тому же и у
насъ? II какъ возможно, чтобы у насъ, напротивъ, были школы
предпочтительно съ однимъ греческимъ языкомъ?! Между тѣмъ, гре-
ческій языкъ значительно ближе намъ, русскимъ, чѣмъ латинскій
языкъ.
Русская культура ведетъ свое начало не съ Запада и Рима,
а именно съ Востока—изъ Византіи: она началась у насъ съ вве-
деніемъ христіанства на Руси и развивалась у насъ вмѣстѣ съ усвое-
ніемъ нами греко-восточнаго православія и соединеннаго съ нимъ
духовнаго просвѣщенія. Геній русскаго языка началъ свое развитіе
подъ непосредственнымъ вліяніемъ именно греческаго языка, при-
чемъ переводный церковный языкъ, въ богослужебныхъ книгахъ и
духовной письменности, имѣлъ существенное формирующее
вліяніе
въ отношеніи къ языку русскому,—даже настолько, что для насъ
теперь языкъ нашихъ предковъ и языкъ церковно-славянскій явля-
ются почти синонимами. Потому-то строй русской рѣчи и психологія
русскаго языка такъ близко сходятся съ строемъ и психологіею
греческаго языка. Вліяніе Запада привзошло въ нашу духовно-
культурную исторію только уже въ позднѣйшее время, когда Русь
настолько окрѣпла, что, сплотившись въ единое цѣлое, свергла та-
тарское иго, стала на собственныя ноги
и сдѣлалась большимъ
государствомъ. Только съ этого времени на страницахъ русской
исторіи появились и письмена латинскаго языка.
Такимъ образомъ, хотя бы для культуры Запада латинскій
языкъ и стоялъ на первомъ мѣстѣ,—у насъ въ Россіи это мѣсто
принадлежитъ языку греческому. И если бы мы привыкли думать
и говорить по-своему, а не съ чужого голоса, то въ соотвѣтствіе
97
примѣру Запада, устроившаго у себя, въ дополненіе къ школамъ
съ двумя древними языками, школы съ однимъ латинскимъ язы-
комъ, мы завели бы у себя, кромѣ школъ съ двумя древними язы-
ками, школы съ однимъ греческимъ языкомъ,—или, по крайней
мѣрѣ, самымъ меньшимъ тогда было бы то, что мы, уравнявъ оба
языка, устроивали бы школы не съ обоими только древними язы-
ками одновременно, но также и съ однимъ изъ нихъ—греческимъ
или латинскимъ. Но мы
не можемъ отступить отъ указаній Запада,
и если тамъ латинскій языкъ считается важнѣе, мыслимо ли намъ
разсуждать иначе?!
Во всякомъ случаѣ, въ отношеніи къ духовной школѣ несо-
мнѣнно какъ то, что первенство и наибольшая важность принад-
лежатъ языку греческому, такъ и то, что богословское образованіе,
вполнѣ достаточное для пастыря Церкви, нельзя дать безъ ознаком-
ленія учащихся съ древними языками, которые должны поэтому
составлять необходимую принадлежность учебнаго строя
духовной
школы, средней и высшей.
Однако же, при безспорной важности древнихъ языковъ для
духовной школы, очевидно также и то, что они ни въ какомъ слу-
чаѣ не являются въ духовной школѣ въ положеніи основъ ея учеб-
наго строя- это—лишь необходимые въ ней учебные предметы,
изученіе которыхъ требуется для цѣлей болѣе глубокаго пониманія
первоисточниковъ христіанскаго ученія. Этимъ опредѣляется и по-
становка преподаванія древнихъ языковъ въ духовной школѣ:
языки эти должны
преподаваться, лишь какъ средство для предо-
ставленія учащимся возможности, когда требуется, пользоваться
подлиннымъ текстомъ священныхъ книгъ и свято-отеческой лите-
ратуры.
Но такъ какъ грамматико-синтаксическія основы древнихъ
языковъ въ общемъ одинаковы для всѣхъ видовъ греческой и ла-
тинской письменности, то преподаваніе этихъ языковъ въ указан-
ныхъ предѣлахъ и цѣляхъ само собою соединимо и съ пользованіемъ
въ школѣ, въ мѣрѣ необходимости, общелитературными произведе-
ніями
классическаго міра, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ нихъ,
какъ, напримѣръ, философскія произведенія Платона, имѣютъ близ-
кое отношеніе какъ къ преподаваемому въ духовной школѣ курсу
философіи, такъ и къ богословскимъ предметамъ.
98
Въ виду спеціально-практическихъ нуждъ преподаванія древ-
нихъ языковъ въ духовной школѣ, грамматико - синтаксически!
объемъ ихъ преподаванія долженъ быть сокращенъ до наивозмож-
ной степени. Классическое языкознаніе, занимавшее въ школѣ такъ
много учебнаго времени, было таково въ ней первоначально потому,
что имѣлось въ виду научить учениковъ практически пользоваться
этими языками, особенно латинскимъ, какъ живыми языками, а
затѣмъ, когда
утратилась всякая нужда въ разговорномъ и пись-
менномъ употребленіи древнихъ языковъ, учебное время, вѣковыми
традиціями отведенное на эти языки въ школѣ, стали употреблять
на грамматико-синтаксическій, съ фонетической и логической сто-
роны, анализъ этихъ языковъ, иногда также съ изученіемъ класси-
ческихъ древностей въ связи съ чтеніемъ литературныхъ произве-
деній. Оправданіемъ для такой постановки преподаванія древнихъ
языковъ при этомъ служило прочно установившееся утвержденіе
объ
особомъ, исключительно древнимъ языкамъ принадлежащемъ,
образовательномъ вліяніи такихъ занятій на умственное развитіе
учащихся. Такъ какъ образовательное значеніе изученія древнихъ
языковъ хотя и безспорно, но не въ приписываемыхъ ему исклю-
чительныхъ размѣрахъ, то само собою падаетъ и основаніе, по кото-
рому такъ чрезмѣрно расширялось грамматико-синтаксическое пре-
подаваніе этихъ языковъ; а потому теперь, при измѣнившемся
въ школѣ положеніи древнихъ языковъ, преподаваніе грамма-
тическаго
строя этихъ языковъ должно быть сокращено возможно
болѣе.
Количество учебныхъ часовъ, отведенное въ духовной школѣ
на преподаваніе древнихъ языковъ, уже въ 1906 году сокращено
было до 20 уроковъ въ недѣлю на каждый языкъ или до 40 уро-
ковъ на оба языка, тогда какъ по уставу духовныхъ семинарій
и училищъ 1867 г. такихъ уроковъ было: 37—для латинскаго
языка и 38 для греческаго, всего же 75 уроковъ, а но уставу
1884 г.—по 30 уроковъ для каждаго языка, всего же на оба языка
60
уроковъ. Можно считать, что сдѣланнаго уже въ этомъ отноше-
ніи сокращенія достаточно и что такимъ образомъ преподаваніе
древнихъ языковъ въ духовной школѣ уже введено съ данной сто-
роны въ тѣ нормы, которыхъ ему слѣдуетъ держаться. Однако,
учебная практика показываетъ, что преподаваніе древнихъ язы-
99
ковъ, все же, не даетъ ожидаемыхъ отъ него результатовъ, т. е.
такихъ успѣховъ, которые можно было бы признать удовлетвори-
тельными, и что причина этого заключается не въ одномъ только
предубѣжденіи противъ этихъ языковъ со стороны учащихся, но и
въ дидактическихъ недочетахъ преподаванія.
Изъ дидактическихъ недочетовъ по преподаванію древнихъ
языковъ нельзя не отмѣтить, прежде всего, встрѣчающагося иногда
стремленія преподавателей къ излишнему
филологическому анализу
при выясненіи грамматическихъ формъ греческаго языка. До-
пускается это отчасти вслѣдствіе того, что спеціалисты-классики, по
привычкѣ или традиціонному убѣжденію, еще держатся въ препо-
даваніи пріемовъ, бывшихъ умѣстными лишь при прежнемъ поло-
женіи древнихъ языковъ въ школѣ; отчасти же причина этого за-
ключается въ недостаточно правильномъ приложеніи къ учебной
практикѣ общеизвѣстнаго дидактическаго положенія о сознательности
усвоенія учащимися преподаваемаго
имъ содержанія.
Въ послѣднемъ случаѣ мы встрѣчаемся съ нѣкоторымъ недо-
разумѣніемъ, требующимъ разъясненія. Безспорно, что все должно
быть усвояемо учащимися, по возможности, сознательно. Но большой
вопросъ: нужно ли, и тѣмъ болѣе—строго и полно, примѣнять эти
требованія къ усвоенію грамматическихъ формъ языка? Не слѣдуетъ
ли, напротивъ, во многихъ случаяхъ преподаванія разсматривать
формы языка, какъ первичные элементы, въ отношеніи къ кото-
рымъ умѣстенъ лишь анализъ лингвиста-спеціалиста
и при спеці-
альномъ же ихъ изученіи? Если взять, для примѣра. родную нашу
рѣчь, то окажется, что добрую половину словъ мы употребляемъ
механически, не задаваясь мыслію о филологическомъ происхожде-
ніи употребляемыхъ словъ,—и это однакоже не мѣшаетъ сознатель-
ности усвоенія нами того предметнаго содержанія, которое озна-
чается въ этихъ недостаточно извѣстныхъ намъ по филологическому
строенію формахъ языка. Въ періодъ школьнаго возраста обстоятель-
ство это отмѣчается для нашего
наблюденія еще болѣе явственными
чертами: ученикъ многаго не знаетъ въ родномъ языкѣ, которымъ
онъ пользуется, и однако же это не мѣшаетъ его сознательному
пользованію выработанными націей формами языка, какъ первич-
ными, для его пониманія, элементами, смыслъ и значеніе которыхъ,
однако, ему хорошо извѣстны.
100
Подобное этому бываетъ и въ отношеніи къ иностранному
изучаемому языку. Если мы въ родномъ языкѣ можемъ зачастую
не только безъ вреда, а даже и съ пользою для дѣла, обойти рѣчь
о суффиксахъ, префиксахъ и корняхъ, то тѣмъ болѣе это есте-
ственнымъ является въ отношеніи къ чужому языку. Тамъ тѣмъ
болѣе естественнымъ становится просто знать извѣстную граммати-
ческую форму, какъ фактъ, не задаваясь цѣлію прослѣдить образо-
ваніе этой формы въ
историко-филологическомъ отношеніи. Правда,
нѣкоторыя изъ фонетическихъ объясненій будутъ при изученіи языка
все же необходимы; но это далеко не то, когда въ филологію
углубляются при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Встарину,
когда на латинскомъ и греческомъ языкахъ даже говорили въ шко-
лахъ, грамматико-филологическаго анализа тамъ совершенно не
было: онъ явился въ школѣ уже тогда, когда на древнихъ языкахъ
перестали говорить и учащіеся и учащіе. Значитъ, можно древніе
языки
отлично звать по краткимъ грамматикамъ, безъ излишней
филологіи. Мнѣ приходилось фактически видѣть, какъ иногда уче-
ники, вдаваясь въ подобныя фонетическія тонкости, не успѣвали
твердо замѣтить самыхъ элементарныхъ грамматическихъ формъ:
получалось, что они и одного не усвояли, и другого не знали.
Рядомъ съ этимъ, отчасти даже на той же почвѣ, нерѣдко
развивался и другой недостатокъ: разбрасываться по частностямъ,
по второстепеннымъ вопросамъ, и опускать изъ вида главное, суще-
ственное.
Въ этомъ случаѣ нерѣдко наблюдалось, какъ, напримѣръ,
столбцы исключеній заслоняли собою основныя правила и какъ
перемѣшивались между собою основное и второстепенное въ эти-
мологіи и въ синтаксисѣ изучаемаго языка—греческаго или латин-
скаго. Преподавателю, видимо, хотѣлось обнять все—чтобы ученики
и одно знали, и относительно другого были освѣдомлены. А вмѣсто
этого получалось, что они, разбрасываясь среди многаго, не успѣвали
основательно усвоить ни одного, ни другого, ни третьяго.
Въ ре-
зультат* ученики, собственно говоря, ничего опредѣленно не знали,
хотя и учили многое.
Своего рода пробнымъ камнемъ для практикуемыхъ препода-
вателями пріемовъ обученія являлось обычно, сколько я замѣчалъ,
отношеніе къ грамматическимъ образцамъ: у тѣхъ, кто склоненъ
былъ къ только что отмѣченнымъ дидактическимъ недочетамъ, грам-
101
матическіе образцы стояли на второмъ мѣстѣ и отъ учениковъ не
требовалось твердаго знанія этихъ образцовъ, такъ какъ предпола-
галось, что пониманіе ученика должно стоятъ выше «механическаго»
усвоенія образцовъ; напротивъ, для тѣхъ преподавателей, которые
не разбрасывались въ преподаваніи по фонетическимъ и вообще
грамматико-этимологическимъ или грамматико-синтаксическимъ зако-
улкамъ, образцы, имѣющіеся въ изучаемой грамматикѣ, какъ при-
мѣры
склоненій и спряженій, получали важное значеніе, и отъ уче-
никовъ настоятельно требовалось отчетливое усвоеніе образцовъ,
по которымъ измѣнялись при склоненіяхъ и спряженіяхъ и другія
слова. Были далеко неодинаковый и послѣдствія этихъ разныхъ
способовъ преподаванія: у однихъ—ученики надлежаще не знали
иногда ничего или почти ничего; у другихъ, напротивъ, они знали,
по образцамъ, хотя важнѣйшія грамматическія формы; въ послѣд-
немъ случаѣ чаще встрѣчались и такіе учащіеся, которые
вообще
удовлетворительно знали изучаемый языкъ.
Въ отношеніи къ изученію языковъ нельзя безнаказанно на-
рушать дидактическое правило о твердости, ясности и отчетливости
усвоенія изучаемыхъ грамматическихъ формъ: ихъ усвоеніе, вспо-
моществуемое вначалѣ тѣми или иными разъясненіями, должно
быть доведено до состоянія механическаго знанія, чтобы затѣмъ
навсегда уже осталось въ памяти. Это требованіе, вполнѣ оправды-
ваемое всѣми дидактическими соображеніями, у насъ стало слиш-
комъ
часто не исполняться, а иногда оно трактуется, даже какъ
устарѣвшее.
На этой почвѣ создается въ школѣ и въ отношеніи къ древ-
нимъ языкамъ тотъ же недостатокъ, который, какъ я уже высказы-
валъ, замѣчается въ преподаваніи русскаго языка: переходя отъ
склоненій къ спряженіямъ, забывать склоненія; переходя отъ эти-
мологіи къ синтаксису, забывать этимологію, а потомъ, при даль-
нѣйшемъ изученіи, забыть и синтаксисъ. Примѣры того, другого
и третьяго нерѣдки какъ въ духовныхъ училищахъ,
такъ и въ
семинаріяхъ. Только неуклонное наблюденіе, чтобы изученное въ
языкѣ разъ уже не забывалось, можетъ обезпечить успѣхъ изученія
древнихъ языковъ и сдѣлать положенный на это трудъ не напрасно
потеряннымъ для него временемъ и не напрасно потраченными
на него силами.
102
Въ частнѣйшей проработкѣ уроковъ въ классѣ также нерѣдко
приходилось встрѣчать тѣ или иные дидактическіе недочеты, вліяв-
шіе на успѣхъ преподаванія. Такъ, случалось видѣть, что препо-
даватель велъ урокъ только въ формѣ устныхъ объясненій учени-
камъ, съ требованіемъ и отъ учениковъ только устныхъ же отвѣ-
товъ, не считая нужнымъ обращаться къ письменнымъ отвѣтамъ
учениковъ въ какой-либо формѣ при классныхъ занятіяхъ съ ними.
Между тѣмъ и
устныхъ разъясненій со стороны наставника часто
бываетъ недостаточно, и въ отношеніи къ ученикамъ также нерѣдко
недостаточно было бы ограничиваться лишь одними ихъ устными
отвѣтами: письменное изложеніе объясняемаго содержанія на клас-
сной доскѣ,—напримѣръ, объясненіе способа измѣненія одной грам-
матической формы въ другую,—требуется со стороны наставника
нерѣдко для большей отчетливости дѣлаемыхъ имъ устно разъясне-
ній; равно какъ и со стороны ученика часто требуется такая же
проработка
на классной доскѣ отвѣчаемаго имъ содержанія для того,
чтобы показать, что онъ ясно понимаетъ то, что отвѣчаетъ. Случа-
лось и такъ, что, хотя преподаватель и пользовался, въ дополненіе
къ устнымъ отвѣтамъ, также и письменнымъ изложеніемъ учени-
ками своихъ отвѣтовъ, но при этомъ допускались имъ тѣ или иные
дидактическіе недочеты въ примѣненіи этихъ дополнительныхъ учеб-
ныхъ пріемовъ. Такъ, напримѣръ, преподаватель посылалъ почти
каждаго ученика къ доскѣ написать, что онъ говоритъ,
а въ это
время классъ оставался въ ожиданіи, пока спрашиваемый ученикъ
подойдетъ къ доскѣ, возьметъ мѣлъ и напишетъ требуемое. Здѣсь и
время, видимо, тратилось непроизводительно, и оживленность клас-
снаго преподаванія понижалась не въ мѣру. Въ нѣкоторыхъ случа-
яхъ, впрочемъ, приходилось видѣть удачно примѣняемый, при по-
добной обстановкѣ, такой пріемъ: ученику поручалось писать на
классной доскѣ, что нужно, а съ другими учениками преподаватель,
до времени, продолжалъ какую-нибудь
иную работу, или спраши-
валъ другого ученика.
Затѣмъ нельзя не отмѣтить, что умѣстно было бы во многихъ
случаяхъ пользоваться пріемомъ записи изучаемаго содержанія не
только на классной доскѣ, но и въ ученическихъ тетрадяхъ. Къ
этому обычно не прибѣгаютъ преподаватели, и въ тетради записы-
ваютъ ученики развѣ лишь то, что предлагается имъ замѣтить,
103
запомнить къ слѣдующему уроку. Между тѣмъ запись (краткая) въ
тетрадяхъ имѣетъ для учениковъ, по законамъ пониманія и памято-
ванія, еще то значеніе, что содѣйствуетъ отчетливости усвоенія пре-
подаваемаго и затѣмъ прочности памятованія: при записи, и вни-
маніе ученика глубже останавливается на разныхъ частностяхъ
объясняема™, и моторно-зрительныя воспріятія усиливаютъ отчет-
ливость усвоенія и прочность памятованія. И съ тѣмъ вмѣстѣ
участіе
всего класса въ такихъ записяхъ содѣйствовало бы
общему оживленію и интеллектуальному внутреннему подъему уча-
щихся.
Здѣсь мы соприкасаемся съ обстоятельствомъ существенной
важности въ отношеніи къ изученію древнихъ языковъ. При рас-
пространившейся всюду критикѣ древнихъ языковъ въ отношеніи
къ школьному изученію ихъ, часто въ недоумѣніи ставятъ вопросъ:
чѣмъ же и какъ заинтересовать учащихся при изученіи древнихъ
языковъ, когда кругомъ ихъ постоянно слышится, что не стоитъ
тратить
времени и силъ на занятія древними языками? Вопросъ
нелегкій для рѣшенія особенно потому, что входить съ учениками
въ разсужденіе о необходимости изученія древнихъ языковъ завѣ-
домо безполезно, доколѣ не пройдетъ періодъ крайняго наклона
общественной мысли въ противоположную, сравнительно съ недав-
нимъ прошлымъ, сторону и доколѣ взрослая часть общества не
проникнется сознаніемъ той благоразумной средины въ сужденіяхъ,
которая ближе всего подходитъ къ истинному положенію вещей. А
школа,
между тѣмъ, должна работать, и ученики должны учиться,
занимаясь въ то же время и древними языками. Какъ подѣйство-
вать на учениковъ, вызвать въ нихъ охоту къ занятіямъ языками,
интересъ къ нимъ?
Отвѣтомъ на это часто является увѣреніе, что слѣдуетъ уче-
никовъ знакомить съ литературою, воззрѣніями и бытомъ грековъ
и римлянъ: это именно и заинтересуетъ мысль учащихся. Но. во-
первыхъ, со всѣмъ этимъ можно было бы знакомить учащихся только
уже въ періодъ нахожденія ихъ въ старшихъ
классахъ, большею
частію уже въ семинаріи, такъ какъ ранѣе этого, по недостаточ-
ности развитія, учащійся заинтересоваться этими вопросами былъ
бы во всякомъ случаѣ не въ состояніи. Затѣмъ, во-вторыхъ, мы ви-
димъ, что и этотъ культурно - историческій и бытовой матеріалъ въ
104
дѣйствительности мало заинтересовываетъ учащихся даже и въ
періоды ихъ возрастнаго состоянія, такъ какъ, строго говоря, это—
область спеціальнаго изученія, въ чемъ не трудно убѣдиться, если
сопоставить изученіе культуры и быта римлянъ, напримѣръ, съ
изученіемъ культуры и быта древнихъ народовъ Востока — асси-
ріянъ, вавилонянъ, египтянъ и проч. Не говоримъ уже о томъ,
что, войдя въ эту область изученія греко-римской культуры, легко
можно было
бы забыть о самомъ главномъ—объ изученіи самаго
языка: могло бы получиться, что ученики среди такихъ занятій
забыли бы и о первомъ склоненіи именъ существительныхъ. До-
вольно многочисленные примѣры этого можно было бы найти изъ
того періода школы, когда классическое языкознаніе признавалось
основою школьной системы.
Итакъ, въ.чемъ же искать опоры интереса учащихся къ древ-
нимъ языкамъ? Полагаемъ—въ томъ, что вообще служитъ психоло-
гически основной исходной точкой интереса,
какъ факта психической
жизни: въ самодѣятельности учащихся, въ самомъ фактѣ пра-
вильной интеллектуальной работы и въ сопровождающихъ его, по
закону психической жизни, эмоціяхъ. Мы постоянно видимъ, даже
и на взрослыхъ, не только на дѣтяхъ, какъ здоровая дѣятельность,
и физическая и психическая, вызываетъ пріятное чувство внутрен-
няго удовлетворенія самымъ фактомъ ея совершенія, независимо
отъ ея содержанія и побочныхъ какихъ-либо обстоятельствъ. На
этомъ всѣмъ извѣстномъ фактѣ
нашей психо-физической жизни прежде
всего основывается и то, что мы называемъ психическимъ интере-
сомъ: интеллектуальный трудъ, если онъ совершается правильно,
по законамъ психической жизни нашей, самъ по себѣ сопрово-
ждается пріятнымъ чувствомъ удовольствія, и это чувство является
затѣмъ стимуломъ къ продолженію того же труда, на каковой почвѣ
постепенно и создается затѣмъ то психическое, опредѣленное въ
своемъ предметномъ направленіи, расположеніе, которое мы назы-
ваемъ интересомъ.
Такимъ
образомъ, задача наша сводилась бы въ данномъ слу-
чаѣ къ тому, чтобы правильно поставить умственную работу уча-
щихся при занятіяхъ древними языками, сдѣлать ее и производи-
тельно-успѣшною и достаточно легкою, или точнѣе—не настолько
трудною, чтобы слишкомъ обременять и подавлять учащихся. Слиш-
105
комъ легкое, дающееся безъ всякаго усилія, тоже не поддерживаетъ
того настроенія, которое нужно въ учащемся для созданія въ немъ
интереса къ даннымъ занятіямъ. Для этого требуется именно трудъ,
работа, только по силамъ. Преподаватель долженъ сумѣть разбудить
духовныя силы ученика, оживить ихъ и вызвать къ работѣ, къ
упражненіямъ мыслительной дѣятельности хотя бы и въ элемен-
тарныхъ занятіяхъ языкомъ: ассоціаціи мысли, развиваясь, множась
и
осложняясь, сами собою, по закону духовной инерціи, будутъ
влечь мысль учащихся впередъ—къ новой работѣ, къ новымъ ассо-
ціаціямъ. Это—потребность живого духа нашего, присущей природѣ
его энергіи.
Само собою понятно, что рядомъ съ этимъ должны быть
использованы преподавателемъ и всѣ дополнительныя, способствую-
щія тому же средства, куда, между прочимъ, будутъ относиться
и тѣ разъясненія, которыя входятъ въ кругъ ознакомленія съ древне-
классическою культурою вообще: все это имѣетъ
значеніе, но лишь
дополнительное, второстепенное, а не основное.
Мнѣ приходилось видѣть въ духовныхъ училищахъ, какъ
иногда преподаваніе древняго языка шло съ надлежащею удовлетво-
рительностію въ успѣхахъ учащихся, при чемъ причина этого, по
моимъ наблюденіямъ, заключалась именно въ умѣньѣ преподавателя
использовать присущее дѣтской душѣ стремленіе къ дѣятельности: на-
ходчивостью, живостью и дидактической цѣлесообразностью пріемовъ
обученія преподаватель будилъ весь классъ,
всѣ работали и охотно
запоминали слова изучаемаго языка, склоненія, спряженій и проч.,
безъ всякихъ разсужденій на тему о необходимости классическаго
языковѣдѣнія. И наоборотъ: всѣ назиданія и наставленія на эту
тему и даже соединявшіяся съ ними разныя прещенія, равно какъ
и разбросанный экскурсіи въ соприкосновенныя съ классическимъ
языкознаніемъ области востоковѣдѣнія, не давали ожидавшихся отъ
нихъ результатовъ, если не было въ преподаваніи главнаго и основ-
ного — умѣнья разбудить
духовную жизнедѣятельность учащихся,
вызвать ихъ на умственный трудъ и въ самомъ трудѣ находить
для себя удовлетвореніе.
Разработка совокупности учебныхъ пріемовъ, какими можетъ
быть достигаемо осуществленіе указанной основной цѣли преподава-
нія древнихъ языковъ, составляетъ задачу методики преподаванія
106
этихъ языковъ и потому въ кругъ настоящихъ замѣтокъ не вхо-
дитъ. Но я находилъ бы неизлишнимъ, въ дополненіе къ сказан-
ному, отмѣтить еще здѣсь нѣкоторыя фактически мною наблюдав-
шіяся стороны преподаванія древнихъ языковъ, трудно примиримыя
съ означенною выше задачею. Такъ, прежде всего заслуживаютъ
быть отмѣченными важные дидактическіе недочеты, встрѣчающіеся
не на однихъ только урокахъ латинскаго и греческаго языковъ, но
весьма существенные
въ отношеніи къ вопросу объ успѣшности пре-
подаванія этихъ языковъ. Это: а) лекціонность преподаванія, прони-
кающая и на уроки классическихъ языковъ, но совершенно неумѣст-
ная и весьма вредная въ отношеніи къ нимъ; б) спѣшность рѣчи
и объясненіи преподавателя, не оставляющая времени для учениковъ
разобраться во всемъ томъ, что имъ сообщается; в) привычка
преподавателя говорить за учениковъ, прямо давая за нихъ отвѣты
на свои къ нимъ вопросы, или слишкомъ опредѣленно подсказывая
имъ;
г) вызываніе учениковъ для отвѣта каждый разъ на средину
класса, вмѣсто того, чтобы почаще бодрить весь классъ обращен-
ными то къ одному, то къ другому ученику вопросами по по-
воду отвѣчаемаго ученикомъ и разъясняемаго преподавателемъ
содержанія; д) вообще продолжительное спрашиваніе одного уче-
ника, при недостаточномъ наблюденіи за оживленностью работы
всего класса.
Рядомъ съ этимъ, какъ уже спеціальная особенность препо-
даванія древнихъ языковъ, встрѣчается и слѣдующее:
преподава-
тель, имѣя въ виду подготовить учащихся къ слѣдующему уроку,
дѣлаетъ самъ этимологическій и синтаксически! разборъ отрывка
латинскаго или греческаго текста, называетъ всѣ слова и самъ же
переводитъ. Ученикамъ остается только одна работа—повторить то,
что сказалъ и сдѣлалъ преподаватель. Такой пріемъ разработки слѣ-
дующаго урока мнѣ приходилось встрѣчать какъ въ училищахъ,
такъ и въ семинаріяхъ,—въ послѣднихъ, правда, болѣе часто, по-
тому что переводы связнаго текста
въ училищахъ бываютъ въ
относительно маломъ количествѣ. Большею частію преподаватели,
практикующіе такой пріемъ подготовки учениковъ къ слѣдующему
уроку, имѣютъ одновременно съ этимъ и вообще привычку говорить
за учениковъ при ихъ отвѣтахъ на предлагаемые имъ вопросы.
Само собою очевидно, какъ мало остается тогда въ пріемахъ пре-
107
подавателя для развитія самодѣятельности учащихся и любви ихъ
къ умственному труду, даваемому изученіемъ языковъ.
На это, быть можетъ, возразятъ: но какъ же тогда исполнить
педагогическое требованіе о проработкѣ съ учащимися уроковъ въ
классѣ при участіи преподавателя? Способовъ исполнить это требо-
ваніе много; но всѣ они обязательно должны быть сообразованы съ
самодѣятельностію учащихся и направлены къ поддержанію этой
самодѣятельности, а
не къ ослабленію ея. Указанный же выше пріемъ
вытекаетъ главнымъ образомъ изъ стремленія сократить классную
подготовку къ слѣдующему уроку до нѣсколькихъ минутъ и упро-
стить ее до проработки всего самимъ преподавателемъ, съ предо-
ставленіемъ учащимся лишь повторить, хотя бы даже механи-
чески, за преподавателемъ въ слѣдующій урокъ все, сказанное имъ
въ предыдущій урокъ.
Приходилось мнѣ въ практикѣ духовныхъ училищъ встрѣчаться
съ преподавательскимъ пріемомъ, взятымъ собственно
изъ мето-
дики преподаванія живыхъ иностранныхъ языковъ: говорить съ
учениками въ классѣ, при производствъ классныхъ работъ, на гре-
ческомъ или латинскомъ языкѣ. Классный школьный обиходъ обычно
не слишкомъ широкъ, вслѣдствіе чего древне-греческая и латинская
рѣчь въ данномъ случаѣ бываетъ не очень сложная, и потому не
трудная для преподавателя и достаточно носильная для учащихся.
Остальной же матеріалъ для такихъ классныхъ locutiones, SiaXo-yot
берется изъ разбираемаго и переводимаго
въ классѣ текста.
По поводу этого можно, невидимому, прежде всего сказать,
что едва ли целесообразно переносить въ преподаваніе мертваго
языка пріемы, вполнѣ умѣстные и полезные при преподаваніи но-
выхъ языковъ, разсчитанные именно на то, чтобы научить практи-
ческому разговорному пользованію изучаемаго языка: на мертвомъ
языкѣ не говорятъ, и потому разговорныя упражненія въ языкѣ
такъ же излишни, какъ излишними признаны переводы съ русскаго
языка на греческій или латинскій языкъ.
Но
для даннаго случая имѣютъ значеніе не одни только
вышеуказанныя соображенія, а также и то дидактически важное
обстоятельство, по которому и переводы съ русскаго языка на гре-
ческій и латинскій языкъ не признаются совершенно ненужными:
упражненія эти лишь ограничиваются, сокращаются въ практиче-
108
окомъ примѣненіи, по сравненію съ Прежнимъ временемъ, но изъ
учебныхъ пріемовъ не исключаются. Переводы съ русскаго языка
на латинскій или греческій языкъ даютъ возможность преподава-
телю полнѣе выяснить то или другое этимологическое или синтакси-
ческое правило, а у ученика вызываютъ усиленіе вниманія и
самодѣятельности въ усвоеніи изучаемаго правила. Поэтому, какъ
дидактическій пріемъ, переводы съ русскаго на древній языкъ,
хотя бы и мертвый,
имѣютъ значеніе и требуютъ оставленія ихъ,
въ этихъ предѣлахъ, въ числѣ методическихъ пріемовъ обученія
древнимъ языкамъ.
Съ этой точки зрѣнія получаютъ значеніе и упражненія въ
примѣненіи изучаемаго языка въ классной разговорной рѣчи: не для
того они нужны, чтобы научить практическому разговорному поль-
зованіи) этими языками въ внѣшкольной жизни учащихся, а для
того, чтобы дать учащимся возможность яснѣе и полнѣе разобраться
въ изучаемомъ лексическомъ и грамматическому матеріалѣ,
такъ
какъ и мысль и слухъ учащагося полнѣе сосредоточиваются въ
этомъ случаѣ на особенностяхъ изучаемаго языка, способствуя бо-
лѣе прочному ихъ усвоенію. Мои наблюденія за классной работой,
когда примѣнялся разсматриваемый методическій пріемъ, приводили
меня къ заключенію о значительной долѣ его дидактической полез-
ности, по крайней мѣрѣ—у преподавателя живого, находчиваго,
бодрящаго учениковъ и умѣющаго поддерживать вниманіе и инте-
ресъ класса къ производящейся на урокѣ работѣ.
Умѣстные
и полезные на первыхъ ступеняхъ изученія древ-
нихъ языковъ — въ духовныхъ училищахъ, переводы съ русскаго
на латинскій и греческій, какъ и упражненія на этихъ языкахъ
въ разговорной классной рѣчи, теряютъ такое свое значеніе на
дальнѣйшей ступени изученія этихъ языковъ — въ духовной семи-
наріи, гдѣ на первое мѣсто выступаетъ уже образованіе у учащихся
навыка въ чтеніи и пониманіи латинскаго и греческаго текста.
Все, что можно ожидать дидактически полезнаго отъ примѣненія
пріемовъ
этихъ при изученіи древнихъ языковъ, долженъ дать пер-
вый періодъ элементарнаго, именно грамматическаго, изученія языка,
падающій на училищный курсъ. И въ частности неизмѣнно повто-
ряющійся въ классѣ почти одинаковыя фразы на латинскомъ и
греческомъ языкахъ въ обмѣнѣ мыслей между преподавателемъ и
109
учениками, имѣвшія для учащихся на первыхъ порахъ значеніе
новизны, могутъ начать вызывать въ учащихся совершенно иное
настроеніе: лишь надоѣдать имъ своимъ однообразіемъ и образовав-
шеюся, за долговременнымъ употребленіемъ, механичностью.
Не сопровождающееся прямыми житейскими выгодами, не
имѣющее утилитарныхъ опоръ для себя въ окружающей учащихся
житейской обстановкѣ, существующее въ школѣ вслѣдствіе высшихъ
интеллектуально - духовныхъ,
научно-культурныхъ и религіозныхъ
требованій и потому располагающее ближайшимъ образомъ лишь
къ интеллектуальному интересу учащихся, въ немъ получающее и
психологически-дидактическое основаніе для себя въ постановкѣ пре-
подаванія,— классическое языкознаніе требуетъ со стороны препо-
давателя, независимо отъ всѣхъ прочихъ учебныхъ пріемовъ, также
методической выдержки и настойчивости въ своихъ дѣйствіяхъ.
При занятіяхъ по многимъ предметамъ нерѣдко можно для препо-
давателя будить
въ учащихся соприкосновенные побочные интересы;
напримѣръ, въ отношеніи къ природовѣдѣнію—вызывать любозна-
тельность конкретными наблюденіями и даже развлеченіями, по
исторіи—заинтересовывать занимательностію повѣствованія, по гео-
графіи—вызывать интересъ сообщеніями о жизни и бытѣ народовъ,
объ особенностяхъ и богатствахъ природы и проч. Въ отношеніи къ
древнимъ языкамъ, въ первой половинѣ ихъ учебнаго курса, когда
именно и слагаются въ учащемся интеллектуальные навыки, почти
ничего
увлекающаго мысль и вниманіе учащихся чѣмъ-либо подоб-
нымъ указать нельзя: главныя основанія существованія этихъ язы-
ковъ еще мало доступны полному пониманію учащихся, занятія
же ими во всякомъ случаѣ есть для учащихся трудъ, а не развле-
ченіе. Внутренняя психологическая и дидактически столь важная
опора классическаго языкоизученія, заключающаяся въ развитіи въ
учащихся любви къ самому труду, даваемому для ума изученіемъ
древнихъ языковъ, требуетъ со стороны преподавателя умѣнья
со-
здать ее въ душѣ учащихся. Для нея даны необходимые перво-
элементы—въ природѣ интеллекта нашей души, въ свойствахъ на-
шей духовно-разумной природы; но нужно умѣть вызвать ихъ къ
проявленію. Путь къ этому—трудъ, котораго ищетъ нашъ умъ;
споспѣшествующія средства—правильные дидактическіе пріемы пре-
подаванія. Преподаватель долженъ умѣть вызвать и воспитать въ
110
учащихся любовь къ интеллектуальному труду, доставляемому заня-
тіемъ древними языками. Эта работа, полная интеллектуально-по-
учительныхъ элементовъ, начинающаяся съ внѣшняго проявленія
нашего ума—слова и постепенно углубляющаяся въ логику нашей
мысли, а затѣмъ возводящая умъ нашъ не только къ болѣе полному
пониманію культурно-историческихъ вопросовъ человѣчества, но и
къ болѣе глубокому проникновенію въ тайники человѣческаго духа
и въ пониманіе
откровеннаго христіанскаго ученія, имѣетъ въ себѣ
всѣ данныя, чтобы заинтересовать умъ учащагося, если со стороны
преподавателя будутъ примѣнены не только умѣлые пріемы обуче-
нія, но и выдержка, настойчивость въ ихъ проведеніи.
Останавливаюсь на этомъ потому, что мнѣ приходилось факти-
чески наблюдать, какъ дидактически-правильные пріемы преподава-
нія все же не давали тѣхъ результатовъ въ успѣхахъ обученія,
которыхъ слѣдовало ожидать отъ нихъ, и знанія учениковъ были»
просто
лишь удовлетворительны. Получалось это въ данномъ слу-
чаѣ, какъ я имѣлъ случай убѣдиться, отъ того, что преподаватель
бывалъ очень уступчивъ и нетребователенъ къ учащимся, которые,
по естественной склонности молодой натуры, пользовались по-своему
этою особенностію своего знающаго и умѣлаго преподавателя. Это
не значитъ, конечно, что я высказываюсь за строгость и особую
какую-либо требовательность со стороны преподавателя въ отноше-
ніи къ учащимся при преподаваніи языковъ. Рядомъ
съ только что
указаннымъ примѣромъ, я видѣлъ и другіе примѣры—суровой тре-
бовательности преподавателя, съ успѣхами учениковъ, стоявшими
однако далеко ниже уровня удовлетворительности, гораздо худ-
шими, чѣмъ у хорошаго, но уступчиваго преподавателя. И причина
этого заключалась не только въ дидактическихъ недостаткахъ пре-
подаванія, но также и въ излишне-суровой требовательности пре-
подавателя, не имѣвшей въ себѣ поощрительныхъ для ученика эле-
ментовъ и скорѣе расхолаживавшей
его въ занятіяхъ по изучаемому
предмету. Необходимы лишь методическая выдержка, точность и на-
стойчивость въ дѣлѣ преподаванія языковъ, залогъ успѣха въ изуче-
ніи которыхъ заключается въ трудѣ, а не то, что называется тре-
бовательностію, и тѣмъ болѣе—суровою требовательностію. Напро-
тивъ, при любви самого преподавателя къ своему предмету и къ
своему дѣлу, его преподавательская настойчивость будетъ прони-
111
каться и согрѣваться тѣмъ чувствомъ внутренняго огня и одушев-
ленія, которое само собою будетъ отъ него передаваться и уча-
щимся, въ нихъ находить себѣ сочувственный отзвукъ и создавать
въ нихъ такое же расположеніе къ занятіямъ языками, какое они
видятъ въ своемъ преподавателѣ.
VIII.
Въ числѣ предметовъ преподаванія въ духовныхъ училищахъ
имѣются чистописаніе и черченіе, преподаваемыя въ I—II классахъ,
при 6 урокахъ въ недѣлю. Предметы
эти не составляютъ особой
каѳедры и преподаются или кѣмъ-либо изъ состава преподавателей,
въ качествѣ дополнительныхъ уроковъ къ нормальнымъ занятіямъ
преподавателя, или еще чаще кѣмъ-либо изъ надзирателей учи-
лищъ.
Обстоятельство это немало вліяетъ и на постановку препода-
ванія этихъ предметовъ въ училищахъ. Какъ ни кажутся предметы
эти простыми и нетрудными для преподаванія, особенно чистописаніе,
на самомъ дѣлѣ и знанія, предполагаемыя данными предметами, и
методика преподаванія
этихъ предметовъ не настолько малозначи-
тельны, чтобы каждый могъ, не затрудняясь, брать на себя препо-
даваніе ихъ. Даже и чистописаніе требуетъ отъ преподавателя зна-
чительныхъ спеціальныхъ знаній и умѣній; тѣмъ болѣе требуетъ
этого черченіе.
1. Недостатокъ знакомства учителей чистописанія съ методикой
этого предмета—слишкомъ частое явленіе въ училищахъ; во многихъ
случаяхъ вся подготовка учителя, особенно молодого, исчерпывается
прочтеніемъ одного какого-либо методическаго
руководства по чисто-
писанію, а иногда—даже просто тѣми или иными прописями, при-
нятыми въ училищѣ и употребляющимися на урокахъ чистописанія,
какъ пособіе. Внѣшняя методическая наглядность прописей,—гдѣ
за элементами буквъ слѣдуютъ буквы, тѣ и другія въ извѣстной
постепенности, а за буквами—ихъ сочетанія въ слова и т. п.,—и
нѣкоторыя свѣдѣнія, сохранившіяся изъ методики чистописанія отъ
времени изученія дидактики въ бытность ученикомъ семинаріи,
считаются обычно достаточными
для того, чтобы быть преподавате-
лемъ чистописанія.
112
Конечно, въ нѣкоторой мѣрѣ удовлетворительно можно вести
преподаваніе и при такихъ дидактическихъ познаніяхъ. Но все же
это — не то, что должно бы быть. Строго говоря, при трудѣ и
усердіи, и сами ученики могутъ совершенствоваться въ каллигра-
фическомъ искусствѣ письма, имѣя предъ собою образцы прописей
для списыванія. Но тогда какой же смыслъ будутъ имѣть учителя
чистописанія? Будутъ являться въ качествѣ наблюдателей за поряд-
комъ въ классѣ,
за тишиной и проч.? Хотя и это имѣетъ свою долю
значенія, но все же надзиратель за класснымъ порядкомъ и препо-
даватель — не одно и то же. Если чистописаніе — предметъ для пре-
подаванія, то и преподаватель долженъ быть таковымъ не номи-
нально только. А это осуществимо лишь при тонкомъ знаніи частно-
стей обученія искусству каллиграфіи и при навыкѣ учителя умѣло
и впечатлительно для учениковъ демонстрировать предъ ними пріемы
изученія каллиграфіи.
Распространеннымъ недостаткомъ
при обученіи чистописанію
является прежде всего то, что на правильное положеніе тѣла у уче-
никовъ при письмѣ нерѣдко не обращается никакого вниманія: уче-
ники сидятъ, какъ кому вздумалось, сгорбленно и криво, пріобрѣтая
тѣмъ сутуловатость или искривленіе позвоночнаго хребта, другіе
упираются грудью о парты и тѣмъ затрудняютъ правильный ростъ
грудной клѣтки; многіе наклоняютъ голову близко къ столу и тѣмъ
развиваютъ у себя близорукость; иные, выводя буквы, подъ влія-
ніемъ своей
работы двигаютъ мускулами губъ, лица, дѣлая разныя
гримасы. И учитель чистописанія, какъ приходилось наблюдать, или
не обращаетъ никакого вниманія на все это, или лишь изрѣдка
ограничивается не имѣющими обычно никакихъ практическихъ по-
слѣдствій замѣчаніями, въ родѣ: сидите ровно, прямо, не горбитесь
и т. п. Важность указаннаго недостатка при обученіи чистописанію
слишкомъ очевидна, чтобы нужно было на немъ останавливаться;
онъ имѣетъ не только спеціально-методическое значеніе для
калли-
графіи, но и еще болѣе — существенное обще-гигіеническое значеніе,
неблагопріятно отражаясь на здоровьѣ учащихся, чрезъ пріобрѣтае-
мые ими при письмѣ вредные навыки.
Что касается собственно методики обученія письму, то она не-
рѣдко заключается лишь въ томъ, что учитель раскладываетъ предъ
учениками прописи, съ которыхъ они потомъ и списываютъ въ
113
классѣ, изо дня въ день повторяя одно и то же. Иногда пріемъ
этотъ разнообразится тѣмъ, что предъ учениками раскладываются
какія-нибудь книжки для списыванія съ нихъ.
И ученики пишутъ... Пишутъ иногда съ грамматическими
ошибками, допускаемыми по разсѣянности. Въ одномъ, напримѣръ,
училищѣ (правда,—женскомъ), при такомъ списываніи, писали: вётъ,
вмѣсто—вьетъ, шэйная, вмѣсто—швейная, полѣзная, зѣленѣетъ, нетъ,
разносщикъ, тогуетъ, вмѣсто—торгуетъ,
рабтникъ зплатилъ, вмѣсто—
работникъ заплатилъ, утачцилъ, вмѣсто—утащилъ, плодоядное, вмѣ-
сто—плотоядное, добраки, вмѣсто—добряки, шышки, шырокая. трова,
на снѣ, вмѣсто—на соснѣ, въ пищю, щявель и т. п. Положимъ, такое
обиліе ошибокъ въ тетрадяхъ по чистописанію приходилось наблю-
дать, какъ исключительное, быть можетъ, явленіе; но въ большей
или меньшей мѣрѣ грамматическіе недостатки въ чистописаніи встрѣ-
чаются нерѣдко, а ихъ, между тѣмъ, совершенно не должно быть
допускаемо
при чистописаніи.
И другая сторона въ данномъ случаѣ имѣетъ значеніе: по
разложеннымъ прописямъ или книжкамъ ученикамъ предоставляется
писать самимъ, по собственному усмотрѣнію. Самодѣятельность уче-
ника имѣетъ въ дѣлѣ обученія весьма большую важность. Но въ обу-
ченіи каллиграфіи ее слѣдуетъ понимать далеко не такъ, какъ въ
отношеніи къ другимъ предметамъ: здѣсь все дѣло въ руководствѣ
учителя и въ его примѣрѣ,—иначе самъ ученикъ будетъ выводить
скорѣе каракули, чѣмъ буквы.
При обученіи чистописанію чѣмъ
больше будетъ учитель подчинять ученика своему примѣру, тѣмъ
успѣшнѣе пойдетъ дѣло обученія. И предоставлять учениковъ въ
этомъ случаѣ самимъ себѣ было бы тождественно со сведеніемъ
роли учителя къ нулю.
Изъ методическихъ частностей при обученіи каллиграфіи заслу-
живаетъ быть отмѣченнымъ слѣдующій весьма немаловажный дидакти-
ческій недостатокъ: при переходѣ къ скорописи обычно не примѣняется
посредствующихъ между среднимъ и мелкимъ письмомъ переходныхъ
упражненій,
и вся методика нерѣдко сводится къ распоряженію учи-
теля писать мельче, или къ раздачѣ ученикамъ тетрадокъ болѣе мел-
кой линовки. Непримѣненіе указываемыхъ методикою каллиграфіи по-
средствующихъ переходныхъ къ скорописи упражненій весьма явствен-
но сказывается на результатахъ обученія каллиграфіи въ училищахъ.
114
Идея этихъ переходныхъ упражненій имѣетъ существенную
дидактическую важность, такъ какъ скоропись отъ крупнаго письма
дидактически отличается не столько величиною начертаній буквъ,
сколько требующимися при этомъ ускоренными мускульными движе-
ніями руки и пальцевъ. А навыкъ къ такимъ движеніямъ дости-
гается не зрительными воспріятіями отъ формы начертаній буквъ,
а именно упражненіемъ въ соотвѣтственныхъ мускульныхъ движе-
ніяхъ. Доколѣ не
будутъ проработаны такія упражненія, надлежа-
щаго успѣха въ скорописи не можетъ быть, и несоотвѣтствіе между
требующеюся быстротою движеній пальцевъ руки при скорописи и
навыкомъ ихъ къ такимъ движеніямъ поведетъ лишь къ разнымъ
неправильностямъ въ начертаній буквъ.
По этой же самой причинѣ требуется при обученіи чистопи-
санію и въ періодъ крупнаго письма время отъ времени возвра-
щаться къ той системѣ предварительныхъ упражненій руки, кото-
рыми методика чистописанія рекомендуетъ
начинать обученіе письму.
Мнѣ не приходилось нигдѣ встрѣтиться съ тѣмъ, чтобы препода-
ватель чистописанія, въ данномъ періодѣ обученія ему, обращался
къ этимъ методическимъ упражненіямъ, считая ихъ, быть можетъ,
принадлежностью до-школьнаго періода обученія письму, хотя эле-
менты буквъ (даже въ грубомъ наименованій и примѣненіи «пало-
чекъ») ученики писали иногда и въ I классѣ училища. Конечно,
въ училищѣ необходимо заново пройти съ учениками и письмо эле-
ментовъ буквъ, для
достиженія надлежащей чистоты и правильности
ихъ начертанія; но еще важнѣе проработывать съ учениками, и
не разъ, элементарныя мускульныя упражненія руки и пальцевъ
(карандашомъ на бумагѣ и мѣломъ на классной доскѣ), отъ кото-
рыхъ зависитъ успѣхъ всего хода обученія каллиграфіи.
Весьма важно при этомъ, чтобы учитель самъ обладалъ навы-
комъ отчетливо и впечатлительно проработывать предъ учениками
всѣ примѣрныя упражненія, особенно же тѣ, которыя требуютъ
пользованія классного
доскою: отчетливо писать мѣломъ на классной
доскѣ не всякій сумѣетъ,—этому нужно тоже научиться.
Для цѣлей наученія каллиграфіи, которая вообще не высоко
стоитъ въ духовныхъ училищахъ, имѣетъ существенное значеніе,
чтобы со стороны всѣхъ преподавателей было наблюденіе за правиль-
ностію письма учениковъ въ каллиграфическомъ отношеніи. Упраж-
115
ненія въ чистописанія прекращаются не дальше, какъ со II класса,
а почеркъ учениковъ надлежащимъ образомъ устанавливается только
въ послѣдующихъ классахъ— Ш-мъ и ІѴ-мъ. Каллиграфическое
исполненіе письменныхъ работъ въ старшихъ классахъ получаетъ
поэтому особую важность.
2. Черченіе введено въ курсъ духовныхъ училищъ съ 1906 года,
и программы для его преподаванія пока не установлено. Обстоятель-
ство это отражается и на постановкѣ преподаванія
этого предмета,
ведущагося въ духовныхъ училищахъ не въ методическомъ только,
но и въ программномъ отношеніи, далеко неодинаково.
Въ большинствѣ училищъ, сколько мнѣ приходилось наблюдать
черченіе, введенное въ курсъ духовныхъ училищъ, понято въ смы-
слѣ геометрическаго черченія и въ постановкѣ преподаванія сообразо-
вано съ программою линейнаго черченія и землемѣрія во второ-
классныхъ церковно-приходскихъ школахъ, при чемъ руководствомъ
для преподаванія принятъ «Практическій
курсъ геометрическаго чер-
ченія и землемѣрія» Корнакова, по которому ведется преподаваніе
этого предмета въ духовныхъ училищахъ, какъ и во второкласс-
ныхъ и церковно-учительскихъ школахъ. Такимъ образомъ, черче-
ніе принято не только въ спеціализированномъ смыслѣ геометриче-
скаго черченія, но и еще частнѣе примѣнено къ нуждамъ землемѣрія.
Что геометрическое черченіе въ примѣненіи къ нуждамъ
землемѣрія преподается во второклассныхъ или церковно-учитель-
скихъ школахъ,—это понятно
какъ по назначенію этихъ школъ,
такъ и по составу учебнаго курса ихъ, въ который входитъ и
геометрія. Но непонятно преподаваніе геометрическаго черченія въ
I—II классахъ духовнаго училища, безъ всякой связи съ геомет-
ріей, преподаваемой совершенно особо уже въ семинаріи. Непонятно
также примѣненіе черченія именно къ землемѣрію, для котораго въ
курсѣ духовныхъ училищъ, и тѣмъ болѣе въ курсѣ I—II классовъ
этихъ учебныхъ заведеній, нѣтъ никакихъ точекъ опоры. Препода-
ваемое въ
III—IV классахъ духовныхъ училищъ, природовѣдѣніе,
соотвѣтственно общему характеру учебнаго курса училищъ, также
является предметомъ общеобразовательнаго содержанія, безъ спе-
ціальнаго примѣненія его къ нуждамъ, напримѣръ, сельскаго хозяй-
ства или сельскаго быта, какъ это предполагается всѣмъ строемъ
второклассныхъ и церковно-учительскихъ школъ.
116
Не соотвѣтствуя курсу духовныхъ училищъ общею своею по-
становкою, геометрическое черченіе въ примѣненіи къ землемѣрію,
преподаваемое по руководству Корнакова, превышаетъ и уровень
развитія учащихся: всѣ тѣ геометрическія частности, которыя вхо-
дятъ въ курсъ руководства Корнакова, какъ показываетъ опытъ, не
легко даются учащимся, и я только въ одномъ-двухъ училищахъ,
гдѣ преподаватели оказались наиболѣе умѣлыми, встрѣтился съ бо-
лѣе или менѣе
удовлетворительнымъ результатомъ такого препода-
ванія, въ другихъ же случаяхъ слишкомъ явственно сказывалась
неподготовленность учащихся къ усвоенію преподаваемаго курса.
Въ нѣкоторыхъ училищахъ преподавалось хотя и геометри-
ческое черченіе, но все же нѣсколько упрощенно, по крайней мѣрѣ,
безъ примѣненія къ землемѣрію (напримѣръ, по руководству Дела-
бара). Здѣсь выше изложенные недостатки сказывались менѣе отчет-
ливо, хотя существо дѣла оставалось то же, и вопросъ объ умѣст-
ности
преподаванія геометрическаго черченія въ духовныхъ учи-
лищахъ продолжалъ оставаться во всей силѣ.
Въ иныхъ училищахъ геометрическое черченіе, будучи взято
также въ элементарномъ видѣ, получало у преподавателя спеціаль-
ное примѣненіе къ орнаментному рисованію, съ тщательнымъ вы-
черчиваніемъ, напримѣръ, разныхъ формъ паркета и вообще орна-
ментныхъ фигуръ.
Я полагаю, что въ духовныхъ училищахъ не требуется ни
геометрическаго черченія вообще, ни тѣмъ болѣе геометрическаго чер-
ченія
въ приложеніи къ землемѣрію, ни также геометрическаго
черченія въ примѣненіи къ нуждамъ орнаментики или техники.
Въ духовныхъ училищахъ, соотвѣтственно общеобразовательному
характеру курса ихъ, должно быть преподаваемо черченіе въ при-
мѣненіи къ нуждамъ рисованія. А потому, съ одной стороны, это
черченіе должно быть самое элементарное, а съ другой—должно
быть направлено къ использованію геометрическихъ построеній для
контурнаго черченія предметовъ—сначала изъ прямыхъ линій, а
затѣмъ
изъ кривыхъ и изъ сочетаній тѣхъ и другихъ; дальнѣй-
шею ступенью должны быть, съ одной стороны, тушевка предме-
товъ, съ другой—переходъ къ рисованію частей человѣческаго тѣла
и всей его фигуры.
Это былъ бы, выражаясь точнѣе, курсъ элементарнаго рисо-
117
ванія, но разработанный на основаніи линейнаго черченія и по-
тому примѣненный къ практическимъ житейскимъ нуждамъ, кото-
рыя требуютъ элементарнаго знакомства какъ съ черченіемъ, такъ
и съ рисованіемъ.
Черченіе весьма важно и для нуждъ самаго рисованія, спо-
собствуя выработкѣ у учащихся навыка въ составленіи правиль-
наго рисунка предметовъ. Точность и обработанность рисунка всегда
считались необходимымъ качествомъ хорошаго рисованія, и едва
ли
можно согласиться съ теоріей «свободнаго творчества» въ рисованіи,
которой иногда руководятся теперь учителя рисованія, какъ это
приходилось и мнѣ видѣть (въ женскихъ училищахъ). По этой
«системѣ свободнаго творчества» преподаватель предоставляетъ уча-
щимся рисовать на данную имъ тему (напримѣръ, изобразить рѣку
и при ней—лѣсъ и овраги, или изобразить горы, озеро въ такой-то
обстановкѣ). И учащіеся рисуютъ, кто что вздумаетъ и какъ взду-
маетъ: получаются рисунки въ родѣ тѣхъ
дѣтскихъ фантазій, кото-
рыя мы такъ нерѣдко видимъ въ семьѣ у 0—7-лѣтнихъ дѣтей, фан-
тазирующихъ про себя на разныя темы «свободнаго ихъ художе-
ственнаго творчества». Конечно, по мѣрѣ практики въ томъ же
и въ слѣдующихъ классахъ, дѣтскія картинки эти, раскрашенныя
къ тому же цвѣтными карандашами или красками, улучшаются;
но въ нихъ всегда остается одинъ недостатокъ—отсутствіе • пра-
вильнаго рисунка и отсутствіе успѣха въ работахъ учащихся
именно въ отношеніи къ рисунку картины,
все еще продолжающей
оставаться на той степени совершенства, когда подъ деревьями,
чтобы отличить ель отъ березы, требуется сдѣлать подписи назва-
ній деревъ, равно и мальчика отъ дѣвочки нельзя отличить безъ
подписи и т. и. Если крайностью было бы продолжительное и пе-
дантичное держаніе ученика на элементахъ черченія при обученіи
рисованію, то, съ другой стороны, было бы крайностью и обученіе
рисованію безъ предварительныхъ упражненій въ черченіи.
Какъ бы поэтому мы ни назвали
преподаваемый въ духовныхъ
училищахъ предметъ—черченіемъ или рисованіемъ, существо его,
соотвѣтственно курсу духовныхъ училищъ, будетъ во всякомъ слу-
чаѣ одинаковое: это было бы или черченіе, переходящее въ рисова-
ніе, или рисованіе, основанное на черченіи.
118
***
Учебная часть въ духовныхъ училищахъ имѣетъ еще и много,
другихъ вопросовъ и сторонъ, требующихъ разсмотрѣнія, особенно
если ставить цѣлію болѣе или менѣе полное обозрѣніе ея. Но за-
дачею моею было лишь использовать хотя нѣкоторую часть того
фактическаго матеріала, который имѣется у меня по наблюденію
за постановкою учебнаго дѣла въ духовныхъ училищахъ. И потому
я не считаю свои замѣтки исчерпывающими затронутые ими во-
просы даже
и въ тѣсныхъ предѣлахъ постановки ихъ.
Нахожу нелишнимъ, въ дополненіе къ изложеннымъ мною на-
блюденіямъ по преподаванію отдѣльныхъ предметовъ въ училищахъ,
сдѣлать нѣсколькихъ общихъ замѣчаній.
Со стороны корпорацій семинарій, какъ отчасти было уже
замѣчено выше, слышатся нерѣдко обвиненія противъ духовныхъ
училищъ, что училища эти даютъ въ семинаріи воспитанниковъ,
недостаточно подготовленныхъ къ прохожденію семинарскаго курса,
при • чемъ указываются какъ разные недочеты по
отдѣльнымъ
предметамъ,—напримѣръ по русскому языку, по математикѣ, древ-
нимъ языкамъ, — такъ и въ отношеніи къ общему развитію уча-
щихся. Если иногда въ обвиненія эти и вносились, быть можетъ,
нѣкоторыя преувеличенія, то все же въ общемъ жалобы эти не-
безосновательны.
Гдѣ причина этихъ недочетовъ въ постановкѣ учебной части
въ духовныхъ училищахъ?
Частныхъ причинъ, связанныхъ съ преподаваніемъ тѣхъ или
другихъ отдѣльныхъ предметовъ, можетъ быть указано немало
какъ въ
программной постановкѣ преподаванія, такъ и въ методиче-
скихъ пріемахъ его: часть этихъ вопросовъ была затронута мною
выше. Но есть кромѣ того и причины общаго характера.
Онѣ—двоякаго рода: учебнаго и воспитательнаго характера.
Источникъ же ихъ одинъ: мальчики, поступающіе въ духовныя семи-
наріи изъ училищъ, еще слишкомъ маловозрастны по сравненію
119
съ воспитанниками старшихъ классовъ семинаріи, возрастъ и раз-
витіе которыхъ подходятъ больше къ возрасту и развитію млад-
шихъ курсовъ высшихъ учебныхъ заведеній, чѣмъ къ воспитанни-
камъ старшихъ классовъ средняго учебнаго заведенія. Попавъ въ
такую среду, только что бывшій ученикъ духовнаго училища те-
ряетъ подъ собою прежнюю почву и не можетъ приспособиться къ
новымъ условіямъ жизни въ семинаріи. Въ училищѣ онъ трактовался
мальчикомъ,
что сказывалось и въ пріемахъ преподаванія у его
учителей, и въ пріемахъ обхожденія у его воспитателей. Здѣсь же
онъ вдругъ становится въ положеніе возрастнаго юноши, которому
предоставляется больше самому разбираться и въ учебныхъ заня-
тіяхъ, и въ другихъ сторонахъ школьной своей жизни. Во многихъ
случаяхъ отъ одного этого хорошіе ученики училища становятся
неузнаваемы въ семинаріи: теряютъ уравновѣшенность, перестаютъ
заниматься съ обычнымъ для нихъ раньше рвеніемъ и усердіемъ
и
допускаютъ разнобразныя провинности по воспитательной части.
Къ этому присоединяются и другія немаловажныя обстоя-
тельства. Учебный курсъ духовныхъ училищъ останавливается на
такомъ предѣлѣ, который не даетъ ему надлежащей внутренней
законченности, и ученикъ переходитъ въ новыя условія школьной
жизни—къ новымъ преподавателямъ, къ новымъ предметамъ и но-
вымъ учебнымъ пріемамъ, прежде чѣмъ онъ успѣлъ умственно
сложиться. Неудивительно поэтому, что ученики духовнаго училища,
достаточно
порядочно исполнявшіе письменныя работы въ училищѣ,
при переходѣ въ семинаріи), представляютъ письменныя работы
далеко невысокаго качества, нерѣдко точно разучиваются во всякой
грамотности и даже на простомъ диктантѣ, который, случалось, давали
въ семинаріи въ цѣляхъ провѣрки ихъ подготовки въ знаніи правилъ
орѳографіи, допускаютъ массу ошибокъ, иногда такихъ, которыхъ
не сдѣлалъ бы порядочный ученикъ начальной школы. Склоненія
же и спряженія но греческому или латинскому языку, служив-
шій
предметомъ упражненій ихъ въ училищѣ, они считаютъ за
«мелочи», которыми имъ не подходитъ заниматься, такъ какъ они
«не маленькіе». Въ результатъ получается, что первый классъ семи-
наріи всюду даетъ наибольшій % малоуспѣшности. А семинар-
ская инспекція зарегистровываетъ въ то же время за учениками
этихъ классовъ большой списокъ разныхъ провинностей.
120
Было бы другое, если бы эти маловозрастные мальчики про-
должали находиться въ прежнихъ условіяхъ своей жизни и уста-
навливаться прочнѣе подъ руководствомъ прежнихъ своихъ препо-
давателей и воспитателей.
Такимъ образомъ само собою возникаетъ вопросъ о необходимости
перечисленія I класса семинаріи къ составу духовныхъ училищъ.
А съ этимъ вмѣстѣ возникаетъ и другой вопросъ—о II классѣ
семинаріи, который обычно даетъ наибольшей послѣ I класса
°/0 не-
успѣвающихъ, а нерѣдко и значительный °/0 разныхъ провинно-
стей. Физически этотъ классъ больше походилъ бы къ возрастному
составу учащихся въ семинаріи. Но это—періодъ переходнаго воз-
раста и начинать съ него новое учебное заведеніе было бы нецеле-
сообразно, въ виду составляющей признанный фактъ пониженности
интересовъ умственной жизни въ этомъ возрастѣ. Ученикамъ этого
возраста правильнѣе заканчивать свое учебное дѣло въ привычныхъ
уже имъ условіяхъ жизни, у преподавателей
и воспитателей, кото-
рые ихъ знаютъ и которые не учтутъ за большой недостатокъ какой-
либо случайный плохой отвѣтъ урока или случайную провинность
въ поведеніи.
Съ другой стороны и учебный курсъ духовныхъ училищъ, при
условіи причисленіи къ нимъ не одного только I класса, но и II
класса семинаріи, представится возможнымъ закончить въ болѣе
полномъ видѣ. А съ тѣмъ вмѣстѣ и семинарія, съ составомъ III—
VI классовъ, получаетъ характеръ компактнаго учебнаго заведенія,
которому
могли бы быть болѣе опредѣленно и ясно поставлены
задачи, всегда писавшіяся въ § 1 устава духовныхъ семинарій, — о
подготовкѣ юношества къ служенію православной Церкви,—но осу-
ществлявшіяся на практикѣ такъ, что семинаріи съ этой стороны воз-
буждали относительно себя много толковъ и нареканій.
Типъ духовной школы, съ 6-лѣтнимъ курсомъ духовныхъ учи-
лищъ и 4-лѣтнимъ курсомъ духовныхъ семинарій, поэтому пред-
ставляется наиболѣе цѣлесообразнымъ даже и съ вышеизложенной
точки
зрѣнія, не говоря о многихъ другихъ данныхъ, свидѣтель-
ствующихъ въ пользу этого же типа реформы духовной школы.
121
Вмѣсто предисловія 3
Общія наблюденія и замѣчанія по учебной части въ духовныхъ училищахъ:
I. По вопросамъ административно-учебнаго характера 5
II. По вопросамъ дидактическаго характера 9
III. Относительно учебныхъ пріемовъ внѣшняго порядка 19
Наблюденія и замѣчанія по преподаванію отдѣльныхъ предметовъ:
I. Св. Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта 23
II. Катихизисъ и объясненіе богослуженія 32
III. Исторія церковная и гражданская 42
IV. Русскій язык 46
V. Письменныя работы учащихся 56
VI. Ариѳметика, географія и природовѣдѣніе 70
VII. Древніе языки 87
VIII. Чистописаніе и черченіе 111
Заключительныя замѣчанія 118